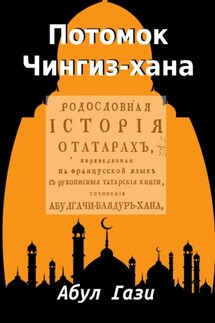История римских императоров от Августа до Константина. Том 4. Гальба, Оттон, Вителлий, Веспасиан - страница 25
Мы отправляемся на войну. Неужели все приказы должны оглашаться в присутствии армии, все советы – происходить публично? Подобная практика разве способствует благу дел или быстроте действий, когда возможности улетучиваются в мгновение? Есть вещи, о которых солдат должен не знать, как есть и те, что он обязан понимать. Авторитет командиров, строгость дисциплины требуют, чтобы даже офицеры порой не знали мотивов получаемых приказов. Если после отданного приказа каждому позволено рассуждать и задавать вопросы, исчезает подчинение, а с ним – и права верховного командования. Разве допустимо, когда мы на войне, позволять браться за оружие среди ночи: один или два негодяя – ибо не верю, что мятежников больше – , один или два безумца, чья ярость усилена хмелем, обагрят руки кровью офицеров, ворвутся в шатер императора? Правда, вы сделали это из любви ко мне. Но в смятении, во тьме, в общей неразберихе злоумышленники могут обратиться даже против меня. Каких иных чувств, каких иных намерений пожелал бы нам Вителлий со своими приспешниками, будь это в его власти? Разве не радовался бы он раздорам и смуте среди нас; тому, что солдаты не слушают центурионов, центурионы – трибунов, дабы мы, смешавшись в беспорядке, конница и пехота, без правил, без дисциплины, устремились к верной гибели? Дорогие товарищи, армия держится на послушании, а не на праздном любопытстве, подвергающем приказы генералов сомнению. Самая сдержанная и покорная перед битвой армия всегда оказывается самой храброй в самой битве. Ваш удел – оружие и отвага; позвольте мне совет и заботу управлять вашей доблестью. Виновны немногие, наказаны будут двое: пусть все остальные изгонят из памяти ужасы этой преступной ночи; и да не повторятся никогда в любой армии эти дерзкие крики против сената. Требовать истребления собрания, которое управляет империей, вмещает цвет и элиту всех провинций – нет, этого не посмели бы даже германцы, которых Вителлий ныне вооружает против нас. Неужели дети Италии, истинно римская молодежь, воспылают кровавой яростью против этого augustо собрания, чья слава дарует нам превосходство над низменной подлостью партии Вителлия? Вителлий имеет за собой варварские племена: его сопровождает войско, лишь напоминающее армию. Но сенат – с нами; и это отличие ставит республику на нашу сторону, а наших противников – в ряды врагов отечества. Что же! Вы думаете, великий и гордый Рим – это дома, здания, груды камней? Эти немые и безжизненные объекты могут разрушаться и возрождаться без последствий. Сенат – его душа, и от его сохранности зависит вечность империи, мир вселенной, ваше и мое спасение. Это собрание учреждено под водительством божественных знамений отцом-основателем города: оно существовало от царей до императоров, всегда цветущее и бессмертное; мы должны передать его величие потомкам таким, каким получили от предков. Ибо как из вашей среды рождаются сенаторы, так из сената выходят принцепсы.
Эта речь, смесь строгости и снисхождения, умелая в порицании и лести солдат, была встречена с восторгом и аплодисментами. Их также обрадовало, что Отон ограничился казнью двух самых виновных, к которым никто не питал сочувствия: и хотя непокорность мятежников не исчезла, она утихла на время.
Однако город не обрел покоя. Приготовления к войне поддерживали смятение; и хотя солдаты не покушались открыто на общественный порядок, они проникали в дома как шпионы, переодетые горожанами, подслушивая речи тех, чье знатное происхождение, ранг или богатство делали их подозрительными. Многие верили, что в город пробрались сторонники Вителлия, тайно выведывавшие настроения. Все было пропитано недоверием, и граждане едва чувствовали себя в безопасности даже дома. На публике тревога росла: с каждым известием – ведь армия Вителлия давно двигалась и приближалась к Италии – люди напрягались, контролировали выражение лиц, боясь показать либо излишний страх при плохих новостях, либо недостаток радости при успехах. Особенно сенаторы на собраниях не знали, как выражать мнения, чтобы не навлечь подозрений. Молчание могли счесть недовольством, откровенность – изменой. А Отон, новый император, недавний простолюдин, разбирался в лести. Поэтому сенаторы изъяснялись туманно, называя Вителлия врагом и предателем, осыпая его общими оскорблениями, избегая конкретики; лишь в моменты шума некоторые позволяли себе четкие обвинения, но кричали их громко и невнятно, чтобы расслышать можно было лишь половину.