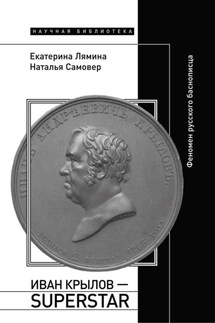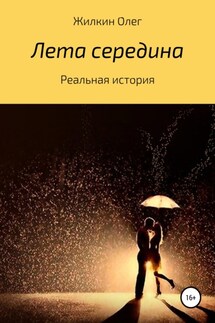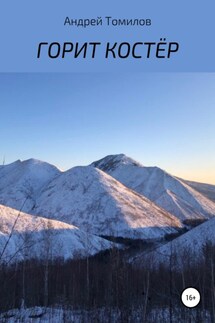Иван Крылов – Superstar. Феномен русского баснописца - страница 25
Если финансовый результат первого года обнадеживал, то уже следующий год показал, что не только развивать достигнутый успех, но даже просто поддерживать все затеянные предприятия нелегко. Если в 1792 году под маркой «Типографии Крылова с товарищи» было выпущено девять наименований книг, то в 1793‑м – только шесть, включая продолжение «Приключений шевалье де Фобласа».
С начала 1793 года журнал «Зритель» изменил название на «Санкт-Петербургский Меркурий». В этом можно увидеть как попытку издателей, Крылова и Клушина, привлечь публику новинкой, так и некое проявление осторожности. Отказываясь от названия, которое вызывало ассоциации с английской сатирической прессой (The Spectator Дж. Аддисона и Р. Стила) и журналами Новикова («Трутень», «Пустомеля», «Живописец», «Кошелек»), они соотносили свое издание с солидным, в первую очередь литературным журналом Mercure de France. Сатирической прозы в «Санкт-Петербургском Меркурии» действительно стало меньше. При этом и число подписчиков сократилось, по сравнению со «Зрителем», почти на четверть, составив 134 человека. Издатели, несмотря на падение курса ассигнационного рубля145 и общую дороговизну, сохранили для подписчиков прежнюю цену журнала – 5 рублей без пересылки, но так удалось выручить только 670 рублей, то есть на 180 рублей меньше, чем годом ранее за «Зритель».
В июле 1793 года Плавильщиков-старший покинул Петербург, решив продолжать карьеру в Москве. Хотя его отъезд не обязательно был сопряжен с изъятием пая – «Законы…» предусматривали в таких случаях передачу управления доверенному лицу (им мог стать Василий Плавильщиков), – структура товарищества и его деятельность начали постепенно меняться.
Вопреки «Законам…», печатание журнала, а также некоторых сочинений пайщиков пришлось перенести в другую типографию. 1 июня между издателями «Санкт-Петербургского Меркурия» и Академией наук была заключена сделка, весьма выгодная для первых146. Академия обязывалась напечатать в своей типографии за казенный счет пять номеров журнала за 1793 год (с августовского по декабрьский). В обмен на это товарищество предоставило для публикации в продолжающемся сборнике «Российский Феатр» семь драматических произведений Крылова и Клушина, ранее не печатавшихся, включая пресловутых «Проказников»147. Клушинские комедии, впрочем, с успехом шли на сцене, так что их публикация в принципе могла бы представлять для товарищества коммерческий интерес, но верх взяли другие соображения.
Тираж пяти номеров «Санкт-Петербургского Меркурия» должен был составить 584 экземпляра (чуть меньше, чем стандартный «полузавод» – 600 экземпляров), включая четыре на высококачественной голландской бумаге – скорее всего, для самих пайщиков товарищества. Издатели «Меркурия», со своей стороны, обязывались получить цензурное разрешение и держать вторую корректуру.
Решающую роль в выработке условий сотрудничества сыграла президент Академии наук Е. Р. Дашкова. Ее пространной резолюцией и руководствовалась канцелярия Академии в своих отношениях с Крыловым и Клушиным.
Все это, однако, лишь отсрочило конец «Санкт-Петербургского Меркурия». В советской исследовательской традиции было принято связывать угасание журнальной активности товарищества и последующий отъезд Клушина и Крылова из Петербурга со скандалом вокруг публикации тираноборческой трагедии Княжнина «Вадим Новгородский». В декабре 1793 года отдельное издание «Вадима», вышедшее в июне, было сожжено, и текст трагедии вырезан из XXXIX тома «Российского Феатра», причем частично пострадала и напечатанная там же ранняя трагедия Крылова «Филомела»