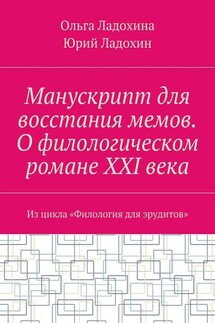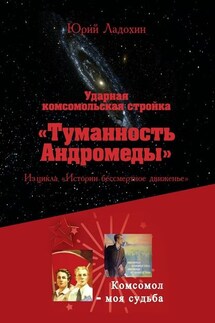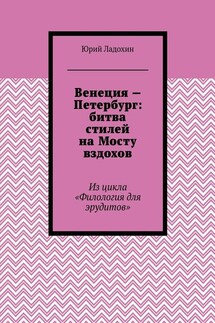Избранники Клио. 20 фантазёров из России, изменивших ход мировой истории. Из цикла «Истории бессмертное движенье» - страница 2
Слово «космос», как оказывается, вкралось в предыдущий абзац не ради пафосной метафоры. Случайно ли совпадение: за год до дерзновенного полета Юрия Гагарина на околоземную орбиту, молодой офтальмолог, несмотря на откровенную неприязнь коллег, вышел на свою – думается, вполне сопоставимую с вершинами первопроходцев – орбиту высочайшего профессионализма?
И, добавим, орбиты отваги и веры в себя: «Он, вернувшись в Чебоксары, решился на смелый шаг – провел операцию по имплантации искусственного хрусталика человеку. Первой пациенткой стала двенадцатилетняя чувашская школьница Лена Петрова, с рождения страдавшая катарактой. Правым глазом она ничего не видела, поэтому ее родители решили, что терять ей все равно нечего, и согласились на рискованный эксперимент. Поскольку человеческого зрения для проведения такой тонкой операции было недостаточно, а специальных приборов в Чебоксарском НИИ ему, конечно, никто не предоставил, Федоров использовал микроскоп, который поставил на тумбочку и обложил толстыми книгами, чтобы тот не упал на пациентку. В таких условиях он и имплантировал хрусталик. Уже через день зрение девочки восстановилось на 30—40%, и она стала первой из трех миллионов больных с подобной проблемой, прооперированных Федоровым и под его руководством» (Там же).
1.3. Единая теория поля и супрематизм
Те, кто застывают в изумлении перед архитектурными шедеврами Палладио и Растрелли, живописными полотнами Тициана и Рембрандта, скульптурными творениями Микеланджело и Родена, те, что восхищаются божественными звуками фуги Баха и оперы Моцарта, готовы, похоже, без всяких оговорок верить в волшебную силу искусства. Но некоторые из них, ставя во главу угла фактор эстетического наслаждения, думается, иногда весьма критически оценивают «художественные опусы» представителей авангардного искусства за их непривычную угловатость, дисгармоничность или несозвучность устоявшимся, классическим образцам.
В число таких известных «париев», похоже, накрепко попал Казимир Малевич и его самое раздражающее публику полотно. Конечно, в паре «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера – «Черный квадрат» основоположника супрематизма последний безнадежно проигрывает в теплой эмоциональности и изящности форм. Но кто сказал, что в живописи важны только «леонардовское» сфумато или яростные, спиральные мазки Ван Гога? Кто отказал художнику в интеллектуальных поисках цельной системы мира, которую физики пытаются описать четырехэтажными формулами и замысловатыми теориями, понимаемыми лишь немногими одиночками, а живописцы оперируют лишь красками и абрисами предметов (а иногда их подчеркнуто вероломным отсутствием).
В этой связи неожиданно, да что там – совершенно невероятно, до некоего даже волшебства – смотрится ситуация, когда человек искусства может опередить ученого в такой, казалось бы, приоритетной для науки сферы, как исследование основ мироздания. Однако, если вдуматься, у нас, похоже, тот самый случай: К. Малевич написал «Черный квадрат» в 1915 году, А. Эйнштейн впервые опубликовал работы по единой теории поля десять лет спустя – в 1925 году. Другой вопрос: сравнимы между собой эти две новации и что их объединяет?