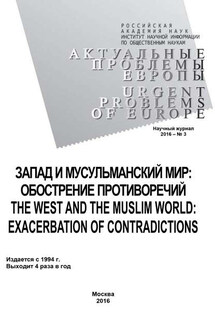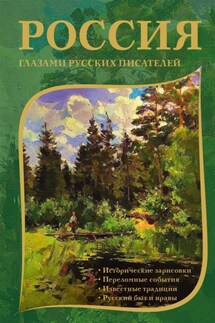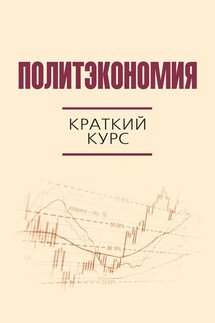Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе - страница 15
Года через два, наверное, после того как это было написано, приехал я на родину. Рядом с родительским стоит старый пятистенник, в котором в последнее время жил бич Малафей. Тут, смотрю, окна заколоченные. Спрашиваю у мамы, где хозяин? Мама говорит: «Умер наш Малафей, мы тебе разве не писали? Зимой ещё. Похоронили. И Карабана тоже уже нет. Как Малафея похоронили, выпили хорошо они на кладбище, шёл Карабан оттуда домой, прилёг или упал, в снегу около церкви, замёрз до смерти, собаки стёгны у него погрызли».
Я – так мне казалось – придумывал, писал о чём-то, что через какой-то промежуток времени всегда по-разному, но откликалось в жизни.
Самое горькое – про отца.
В 1990 году в издательстве «Советский писатель» вышла моя книга. «День первого снегопада». Название не моё. Моё было – «День Покрова». В издательстве сказали, что «покров – это когда бык тёлку кроет», вынудили меня поменять название, категорически. Поменял. В первом романе «Зазимок» герой Олег, получив сообщение о смерти отца, едет на похороны.
В романе:
«Тихий лес. Здесь и ветра нет, и носа он сюда не кажет, только дружок его вертится – сквознячок кладбищенский, лист потрепать – у него и силёнок-то, а на другое что не хватит. Упали с черёмухи отцу на лицо две капли, на веки прямо, и не разбились, стекли по вискам, как бусины хрустальные. Взглянул на них Олег – и не удивился; и других чувств, кажется, никаких – будто плыл долго, на берег выбрался и впал в беспамятство. Только тот мальчик, маленький, босой, который так и не высказал тогда – ни тогда, ни позже за всю свою жизнь – слова такого: папочка! – взметнулся, забился, как в падучей, пришёл в себя, попробовал вырваться, но в горле застрял и задохся, задохся и скорчился. Подкосились ноги – так, будто сзади кто подкрался, полоснул ножом и перерезал сухожилия. Упал коленями в глину. Ткнулся щекой в щетину белую. Сказал:
– Папка, – пустым, бессмысленным, бумажным, как искусственные цветы на могилах, ощутил это слово, не умом ощутил, а сердцем, но не своим как будто, а того, задохшегося в горле мальчика, и произнёс:
– Отец, – и легко стало, легко: заплакал…
Сорвался лист с черёмухи, упал отцу на руку.
А потом смотрел кто-то на скоро растущий холм бурой глины, брёл кто-то обратно в Ялань, входил в дом кто-то, мыл руки, раздавал гостям полотенца, садился за стол, пил водку из доверху полного стакана, не закусывая, видел – не видя, слышал – не понимая слов собравшихся за столом людей, и думал: не понимаю… не понимаю… ничего не понимаю…»
Мой отец умер через шесть лет после выхода этой книги.
Совпало всё. День смерти. Погода. Но когда с черёмухи отцу на лицо упали две капли, мне стало совсем плохо: подкосились ноги – так, будто сзади кто подкрался и перерезал ножом сухожилия… – дважды отца похоронил.
Было подобного немало, да говорить здесь обо всех случаях не хочется и незачем, один лишь приведу, повлиявший на меня более, чем остальные, хотя и не было там полной копии с сюжета, а всё иначе несколько произошло. Сочинил я как-то рассказ: «Понедельник, 13 сентября» – назвал его так, даже и не думая о совпадении числа и дня недели, – рассказ, в котором герой, Северный Михаил Трофимович, уроженец Черниговщины, из бывших «военнопленных», а потому и – лагерников, взятый мной в повествование с настоящими именем, отчеством и фамилией, едет будто с утра в понедельник, тринадцатого сентября, на грейдере, на котором и на самом деле он работал, вынимает, удобно расположившись в грейдерском седле, из кармана запылившегося пиджачка бутылку и пьёт, круто запрокинув седую, кудлатую голову, на ходу своей машины самодельное винишко из бутылки, раз, да другой, да третий приложившись, напивается до добродушия и начинает петь песню, специально для него сочинённую трактористом; тракторист – случается у них такое не впервые – останавливает трактор, выпрыгивает из кабины и, чтобы его товарищ старый не свалился под колёса грейдера, приматывает того, осоловевшего, к грейдерскому дырчатому седлу-креслу алюминиевой проволокой; а дальше происходит нечто непредвиденное, в результате чего грейдерист Северный Михаил Трофимович прощается в рассказе с жизнью, в жизни реальной же, оставаясь здравствовать покамест, вышел вскоре на пенсию и занялся своим хозяйством: всё, помню, и разгуливал степенно из улицы в улицу, из заулочка в заулок, с кнутом то в руке, то за голенищем вонько смазанного дёгтем кирзового сапога, всё и искал свою блудливую корову, спрашивая о ней встречных, кто где не видел ли её, по-русски, а матеря её уже на суржике каком-то. Кто-то и говорил, что вроде слышал, будто и булькало при этом у него, у Михаила Трофимыча, что-то тихонечко в кармане. Может, и булькало, что ж тут такого.