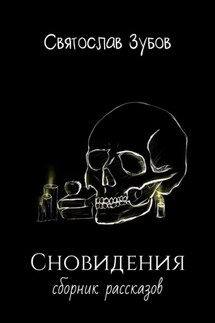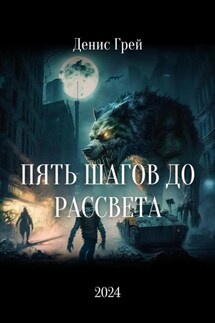Карим Хакимов: летопись жизни - страница 24
Этот факт говорит и о другом: Карим, в отличие от трех первых своих попыток, перестал искать исламское образование, пусть даже и в джадидистской упаковке. Ему нужно было полноценное светское образование. Джадидизм оказался для него чуждым явлением (в этом Г.Г. Косач абсолютно прав), что и подтвердили дальнейшие события.
Вторая, уже неформальная школа, которую он прошел в Томске, была для его будущего намного важнее. В Томске за два года общения и участия в общественно-политических мероприятиях, выборах разного уровня К. Хакимов сформировался как политический деятель и стал себя пробовать на политическом поприще. На этом пути были свои этапы.
Студенческие кружки, в которые он попал для подготовки к сдаче экзаменов в гимназии, вовлекли его в обсуждение политических проблем. Под их влиянием, он из чистого пацифиста и антимилитариста мутировал в «пораженца». Но это было лишь началом его политической эволюции. Кроме татар-просветителей из числа мусульман, в городе были, как мы уже отметили, ссыльные по политическим статьям, сторонники сибирского областничества и социал-демократические кружки, в один из которых и попал Карим, скорее всего, как человек, уже «обработанный» еще Ковалевским марксистскими теориями. Хакимов прямо пишет в своей автобиографии, что в Томске он «столкнулся» с социал-демократами и некто Негматуллов «взял руководство над моим политическим воспитанием. После прохождения определенного курса он представил меня социал-демократическому кружку, куда я был принят рядовым членом»[34].
При этом, судя по всему, Карим по духу оставался мусульманином, не терял связи со своей мусульманской общиной, мыслил себя как мусульманин. Этот феномен был широко распространен в России и нуждается в особом внимании. Значительная масса мусульман поддержала Октябрьскую революцию. Многие мусульмане сражались в мусульманских бригадах Красной армии. В их числе был и Карим Хакимов.
С чем это было связано? Думается, что многие мусульмане поддерживали свойственный большевистской революции первоначальный эгалитаризм, поскольку он по духу близок исламу, в котором все верующие – члены одной уммы и все они – братья, призванные помогать друг другу. Кроме того, мусульмане, как и социал-демократы, были, по сути дела, интернационалистами. В том смысле, что для тех и для других национальность или этническая принадлежность не имели большого значения, для обоих важна была вера – либо в марксистскую теорию и революционную роль рабочего класса, либо в Аллаха. Так крайности сходятся.
Примечателен один диалог, который у К. Хакимова состоялся со своим случайным знакомым гораздо позднее, в январе 1935 года, в Уфе. Это был сосед по дому Гайнан Амири, ставший впоследствии известным писателем. Он рассказывал, что Карим Абдрауфович, приехавший на побывку к сестре Магнии, однажды спросил его об идеалах нового поколения, и тот ответил: «Мы веруем в коммунизм, поклоняемся ему». Разговор шел на родном языке, и Гайнан употребил арабское слово «иман» – вера. Это ответ очень понравился Хакимову[35]. Он внес лишь одну поправку – что в него мало верить, надо его знать…
При этом, хотя социал-демократы были атеистами, они на том этапе, до Октябрьского переворота, свой резко антирелигиозный настрой не включали в свои программы и никак не афишировали.