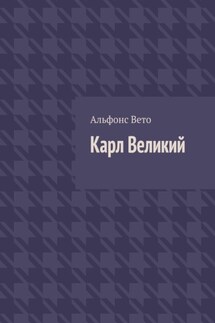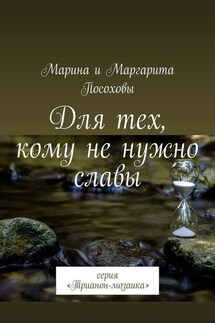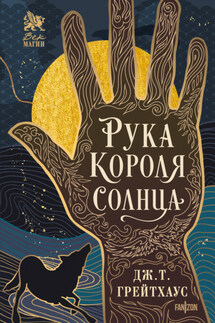Карл Великий - страница 46
С середины VI века ослабление империи, последовавшее за вторжением германцев в Верхнюю Италию и основанием Лангобардского королевства (572), еще больше погрузило пап в заботы о государственных делах. С тех пор полуостров был более или менее предоставлен сам себе. В Равенне, под титулом экзарха, находился своего рода проконсул на древний манер, управлявший и, прежде всего, выкупавший незавоеванные провинции от имени византийского двора. Герцоги, которых он назначал или увольнял по своему усмотрению в Риме, Неаполе, Генуе и Пентаполе, и даже муниципальные магистраты южного побережья, Сицилии, Корсики и Сардинии, которые, будучи выборными, ускользали от его контроля, должны были, правда, по его приказу, сформировать полный каркас императорской администрации. Но этот тщетный аппарат политической и военной централизации был не более чем ярлыком, лишенным реальности. С самого начала лангобардский завоеватель Альбоин поставил на его пути непреодолимое препятствие, создав два варварских герцогства Сполето и Беневенто, которые изолировали Равенну, голову без тела, от Рима и остальной части Апеннинского полуострова.
Более того, спустя двести лет после расчленения Западной империи экзархат представлялся итальянскому патриотизму не более чем правительством иностранной оккупации. Не имея возможности оправдать эффективной защитой тяжелые жертвы, которые он налагал на жителей, он безвозмездно ранил национальные устремления. Ведь настоящая Италия не хотела быть греческой, как не хотела быть лангобардской: ее гений вел ее к федерализму. Привязанность народа к своим муниципальным правам и католической ортодоксии заставляла его одинаково ненавидеть упрямый деспотизм греков и грубость еретиков-лангобардов. Его вождями были не делегаты константинопольских или павийских монархов, а свободные магистраты его городов и особенно епископы, настоящие авторы свержения готского королевства; центром его притяжения всегда был Рим. Там непреодолимое течение общественного мнения и всевозможные социальные нужды ежедневно расширяли гражданские полномочия понтифика. Беглецы из городов, угнетаемых лангобардами, приходили за убежищем и защитой к нему, а не к экзарху; в бедственном и запущенном положении империи именно казна Римской церкви обеспечивала не только выкуп пленных, но и жалованье ополченцам, строительство и содержание военных объектов. Уже в конце II века святой Григорий Великий, несмотря на свою сильную душу, сгибался под бременем понтификата и мог искренне жаловаться, что ему приходится исполнять не столько обязанности пастыря душ, сколько обязанности мирского князя. Действительно, Италия не знала другого государя, кроме него. Успешно возглавив оборону Вечного города от лангобардского короля Агилульфа, он один оказался в состоянии вести переговоры о мире с агрессором от имени римского народа. Экзарх напрасно протестовал против инициативы папы, благодаря которой сам экзархат был спасен от неминуемой гибели, но на полуострове это не нашло отклика.
Еще более века преемники святого Григория Великого, постоянно враждуя с дряхлой восприимчивостью империи, не уставали обращать свое огромное влияние себе на пользу и исполнять возложенную на экзархат миссию. Ни их популярность, ни неблагодарность власти, которой они служили, не могли побудить их разорвать узы почтения, связывавшие Святой престол с троном Константина. Раскол, которого требовали политические интересы Запада, должен был быть произведен самими кесарями и на религиозной почве. Потребовались их теологические эксцессы и святотатственные эдикты, а также восстание ортодоксальной Италии, чтобы заставить папство признать на законодательном уровне (хотя и с большим темпераментом!) давно установленный факт его временного суверенитета над населением, которое его признавало.