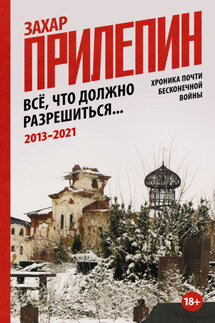Книгочёт. Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями - страница 37
Тем более что «Надпись» была двадцатым романом Проханова, а я питаю некоторую слабость к ровным числам.
Но теперь у Проханова уже тридцать романов. Наверняка он сам об этом не помнит, но я-то все их читал. Впрочем, и это не столь много, как кажется иным его недоброжелателям. Александр Дюма, к примеру, написал пятьдесят три романа, Жюль Верн – более восьмидесяти, наследие хоть Льва Николаевича Толстого, хоть Алексея Николаевича, хоть Лескова, хоть Горького никак не меньше наследия Проханова.
Я бы еще вспомнил два, казалось бы, далеких друг от друга имени – весьма плодовитого Киплинга и не менее плодовитого Юлиана Семенова.
Дело в том, что и автора цикла романов об Исаеве-Штирлице, и Проханова называли в разные времена «советским Киплингом».
У Семенова и Проханова даже биографии внешне схожи – оба, далеко не в качестве туристов, объездили полмира, оба написали десятки книг (Семенов автор двадцати шести романов). Причем, поверхностно определяя жанр этих книг, можно назвать большинство романов Семенова и многие романы Проханова «политическими детективами». Им обоим завидовали не столь удачливые собратья по перу. О том и о другом ходили слухи, что они агенты КГБ. С Семеновым даже не здоровались Анатолий Рыбаков и Григорий Бакланов – подозревали и презирали. Они же, но позже не здоровались с Прохановым.
Не знаю, как сейчас на сравнение с Киплингом (или с Семеновым) реагирует сам Проханов, но можно сказать, что, явно проигрывая Семенову в советские времена в популярности, сейчас он его обыграл. И не только по степени известности. Тут дело в другом.
Семенов свою судьбу разведчика, милитариста, имперца, «советского Киплинга» не доиграл до финала и даже обрушил, в известной степени приняв сторону лавочников, презираемых им всю жизнь. В итоге он не нужен ни лавочникам (которых нервно потряхивает от самого слова «Империя»), ни тем, кто лавочников презирает. А Проханов судьбу свою делал твердо, упрямо и последовательно – за что и вознагражден ныне.
Критики Проханова со временем забудутся и рассеются – просто потому, что всякий разумный и чуждый литературным склокам читатель прекрасно поймет, читая Проханова: вот это настоящее.
Проханов, хотя и злоупотребляет иногда несколькими однотипными и патетичными приемами, умеет, по сути, все, что должно уметь большому писателю.
Он начинал как писатель деревни, черной земли, русской почвы – и его книжка «Иду в путь мой» имеет все права войти в антологию лучшей деревенской прозы, где уже вписаны имена Абрамова, Белова, Екимова, Личутина, Распутина. Это пожизненное знание русской природы и сердечная любовь к ней периодически дают о себе знать в более поздних вещах Проханова – скажем, в чудесной сцене сбора грибов в «Последнем солдате Империи». Пришвин бы благоговейно шляпу приподнял, читая эту сцену.
Проханов тогда еще услышал русскую речь, увидел лица деревенских вдов и понял русский характер во всей его достоевской неоднозначности. В том стародавнем споре, когда Шукшин обвинял Проханова в неоправданной и упрямой жестокости героев одного его раннего рассказа, я, безусловно, на стороне Проханова.
Проханов умеет описывать не только свое альтер-эго, но и замечательно создает целые галереи самых разнообразных характеров: как легко различимы десятки лиц в романе «Шестьсот лет после битвы», как хороши нарисованные с чеховской четкостью портреты офицеров во «Дворце».