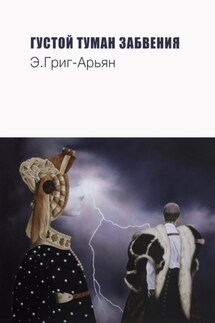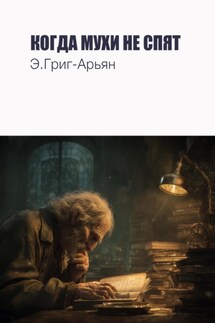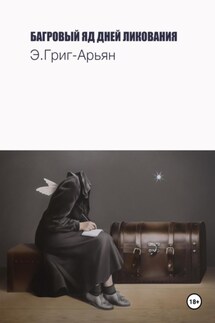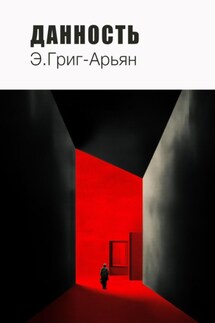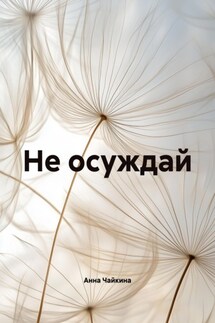КОГДА МУХИ НЕ СПЯТ - страница 18
И его отношение ко всем, кто остался, кто молчал, кто сотрудничал… о, это было как старый, незаживающий нарыв. Он не прощал. Не прощал тех, кто находил оправдания, тех, кто говорил о «внутренней эмиграции», как будто можно спрятаться внутри себя, пока мир снаружи горит. Он видел в этом самообман, трусость, попытку сохранить чистоту, запачкав руки бездействием. «Внутренняя эмиграция», говорил он, это попытка усидеть на двух стульях, попытка сохранить свое место, пока другие рисковали всем или теряли все. Его радиообращения были полны не только гнева на режим, но и горького разочарования в собственном народе, в его слабости, в его готовности подчиниться злу. Он считал, что каждый, кто жил там, несет часть ответственности, даже тот, кто просто молчал. Молчание было согласием. Бездействие было соучастием. Это была его суровая, неумолимая правда.
А был еще Гессе. Герман Гессе. Другой великий, другой изгнанник, но другого рода. Он ушел раньше, в свою Швейцарию, задолго до прихода того, ушел не от политики, а от шума мира, от национализма, от войны, которая уже тогда казалась ему безумием. Он искал себя, искал душу в лабиринтах Востока, в психоанализе, в музыке сфер. Гессе был интроверт, мистик, художник, чье поле битвы было внутри человека. Манн же, даже когда писал о глубинах души, всегда был связан с внешним миром, с обществом, с историей. Он уважал Гессе, да, признавал его гений, особенно в поздних работах, в этой его «Игре в бисер», где мир был сведен к чистой мысли, к абстрактной гармонии, как будто в попытке уйти от хаоса реальности. Но он не мог принять этот путь для себя. Писатель, по Манну, не мог просто наблюдать за хаосом, он должен был говорить о нем, кричать о нем, пытаться понять его и осудить. Гессе ушел внутрь, Манн остался снаружи, обличая. Два одиноких пути, оба великие, оба мучительные, оба отмеченные печатью одного и того же времени. Но Манн не мог понять, как можно искать гармонию внутри, когда снаружи творился ад. Это была разница не в таланте, а в выборе, в моральном императиве.
И вот, его наследие. Тяжелое. Монументальное. Нелегкое для чтения, нет. Как подъем в гору, где воздух разрежен и каждый шаг дается с трудом. Но там, наверху, открывается вид. Вид на пропасть, на вершины, на извилистые тропы человеческой души и человеческой истории. Его книги – это не просто истории, это диагнозы. Диагноз больной Европы, больной Германии, больного человечества. «Волшебная гора», где мир перед катастрофой собрался в одном санатории, дышальном смертью и философией. «Доктор Фаустус», эта страшная, гениальная книга о сделке с дьяволом, которую заключила Германия ради своего особого пути, ради гениальности, ради власти, заплатив за это душой. Он писал долгими, извилистыми предложениями, как будто пытаясь вместить в них всю сложность, всю противоречивость, всю вину этого времени. Его ирония – это не смех, а горькая усмешка человека, который видел слишком много. Его лейтмотивы, повторяющиеся, изменяющиеся, как в симфонии, связывают воедино распад семьи, болезнь тела, безумие души, катастрофу истории. Он был мастером слова, да, но его мастерство было служением. Служением правде, служением памяти, служением предупреждению. Он не просто писал книги, он строил монумент из слов – монумент утраченному, монумент осуждению, монумент вечному напоминанию о том, что происходит, когда разум отступает и зло поднимает голову. Монумент, который стоит и по сей день, тяжелый, мрачный, но необходимый. Как напоминание. Как укор. Как вечный вопрос, обращенный к нам, живущим после.