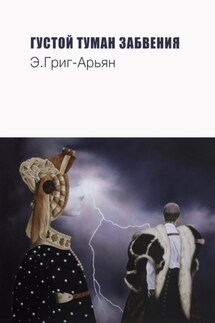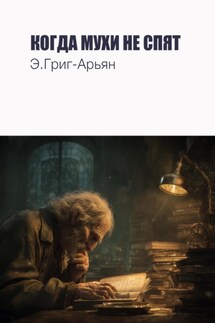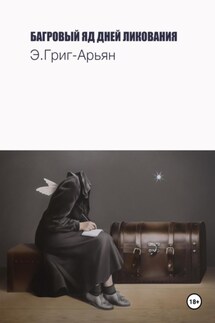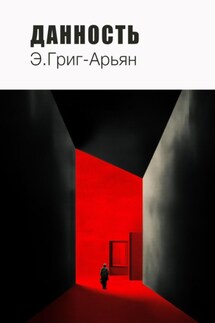Читать онлайн Э. Григ-Арьян - КОГДА МУХИ НЕ СПЯТ
Сын человеческий
Он стоял там. Рене Магритт. Неподвижно. Застывший в этом плоском, не прощающем свете, что не отбрасывал теней, но лишь подчеркивал ту странную, оскорбительную обыденность его облика. Человек. Да, человек – так, как его вылепило время, как его сковало это неумолимое, требовательное, вечно спешащее время, облачившее его в эту «униформу» – не солдата, нет, но нечто куда более коварное, куда более прочное. Пальто. Темное, глухо застегнутое, скрывающее – что? – грудь, дыхание, то слабое, уязвимое биение жизни, что отличает живое от камня или хорошо сшитого манекена. Пуговицы, рядком, как маленькие, немые свидетели его нерушимости, его отгороженности. И шляпа. Котелок. Твердая, круглая скорлупа, венчающая голову, скрывающая волосы, форму черепа – все то личное, что могло бы хоть намеком выдать в нем «этого» человека, а не «любого» человека. Он стоял так, будто ждал чего-то, но без всякой надежды, без нетерпения – просто стоял, как скала, как столб, как нечто, что время могло бы обтесать, но не сдвинуть.
За ним – или, быть может, «перед» ним, ибо свет был столь обманчив, а пространство вывернутым наизнанку – простиралось нечто неопределенное. Низкий парапет, грубый камень, линия раздела. Раздела между ним – этим плотно упакованным, непроницаемым «Я» – и тем, что лежало за ним. А за ним… Господи, что там лежало? То ли море – серое, свинцовое, без горизонта, без чаек, без волн, что бьются о берег с тем шумом, что напоминает о жизни и смерти, просто серая, бездонная «масса» воды, несущая в себе тяжесть всех невыплаканных слез мира. То ли небо – такое же серое, такое же бездонное, низкое, давящее, полное невысказанных угроз и предчувствий, которое не обещало ни солнца, ни звезд, ни даже дождя – просто «серость», простирающаяся до бесконечности. А может, это был дым. Дым заводов, дым городов, дым всех тех усилий, что человек прилагает, чтобы скрыть от себя самого свою собственную пустоту или свою собственную, неудобную, дикую природу. Неважно, что это было. Важно, что это было «там», за парапетом, за границей его мира, и оно было велико, безлико и равнодушно.
И вот тогда. «Тогда». Прямо перед ним. Не в руках, не в кармане, не на земле – но в воздухе. Висящее. Невозможное. Яблоко. Зеленое. Сочное. Невероятно, вызывающе «зеленое» на фоне всей этой серости и черноты. И оно не просто висело. Оно «заслоняло». Заслоняло «лицо». Ту часть человека, что должна была говорить о нем все – глаза, морщинки у рта, линия челюсти, – все то, что делает его «этим» человеком, а не безликой фигурой в пальто. Яблоко. Круглое, совершенное, банальное и при этом – чудовищно, непостижимо важное. Оно висело там, как завеса, как барьер, как тайна, которую нельзя разгадать, потому что она… слишком проста? Слишком сложна?
«Сын человеческий», – сказал бы он сам, или кто-то другой сказал бы о нем, глядя на эту фигуру, застывшую в неопределенности. Сын человеческий. Как тот, первый, что ел яблоко в другом саду, и как все те, что пришли после него, несущие на себе бремя этого знания, этого выбора, этой вечной, неутолимой жажды чего-то – чего? – что всегда оказывается скрытым, всегда заслоненным чем-то другим, чем-то таким же простым и таким же непонятным, как это зеленое яблоко. Это не яблоко греха, может быть, в чистом виде. Это яблоко «скрытого». Яблоко «невидимого». Яблоко «Я», которое спрятано так глубоко под слоями приличий, страхов, желаний и вот этого самого, обыденного, зеленого яблока, что ни сам человек, ни тот, кто смотрит на него, уже не может его разглядеть. Он стоит там, Сын человеческий, в своем пальто и шляпе, перед серым ничто, и перед его лицом висит яблоко – яркое, живое, зеленое – вечное напоминание о том, что самое главное в нем остается… «невидимым». Навсегда. Спрятанным за этой круглой, зеленой, совершенно обычной тайной.
Наоборот
Гюисманс. Жорис-Карл Гюисманс. Имя, которое звучало как сухой кашель в затхлой комнате. Тогда, в те годы, когда мир задыхается от собственной пошлости, когда каждый день был похож на предыдущий, серый, скрипучий, как несмазанная телега по разбитой дороге, – появилась эта книга. Нет, не просто книга, не стопка бумаги с чернилами, которую можно пролистать и забыть, а… ну, как если бы кто-то взял всю усталость мира, всю его боль от красоты, которая оказалась грязью, и спрессовал это в один плотный, удушливый комок. «Наоборот», – так она называлась. À rebours. Или «Против шерсти», или «Против природы», названия менялись, как тени в сумерках, но суть оставалась той же: что-то, что шло наперекор, что-то вывернутое наизнанку, как грязная перчатка.
Восемьдесят четвертый год, тысяча восемьсот восемьдесят четвертый – кажется, это было вчера, а на самом деле целая вечность прошла, и все изменилось, и ничего не изменилось, потому что та тоска, то отвращение к миру, они никуда не делись, они просто спрятались поглубже, как змеи в траве.
И герой… если можно назвать его героем. Дез Эссент. Жан дез Эссент. Последний в роду, выродившийся, болезненный, с нервами тонкими, как паутина, и душой, натертой до мозолей от постоянного соприкосновения с реальностью. Он не делал ничего, по сути, в этой книге. Он был. Он чувствовал. Он отгораживался. Как улитка прячется в раковину, только его раковина была поместьем Фонтене, выстроенным не из известняка, а из его собственных прихотей, из его отвращения, из его болезненной тяги к искусственному.
Он там сидел. Один. Среди своих книг – нет, не тех, что читают все, а тех, что забыты, что пахнут пылью веков и ересью. Среди своих цветов – не живых, вонючих от земли и росы, а искусственных, сделанных из шелка и металла, идеальных в своей неестественности. Он создавал запахи, как алхимик яды или эликсиры, смешивая их, чтобы вызвать воспоминания, чтобы утонуть в них, чтобы забыть, что за стенами есть мир, где пахнет потом и навозом. Он играл на своем «органе для ликеров», нажимая клавиши, и каждый вкус был нотой, аккордом в этой странной, пьянящей симфонии его одиночества.
И та черепаха… Господи, та черепаха! Ползет себе по ковру, медленная, древняя, сама природа во плоти, и он, Дез Эссент, смотрит на нее и видит… нет, не черепаху, а дисгармонию, пятно на своем идеальном, продуманном до мелочей искусственном мире. И что он делает? Он не убивает ее, нет, это слишком просто. Он берет ее, живое существо, и превращает в предмет, инкрустируя ее панцирь драгоценными камнями, превращая ее медленное ползание в тяжелый, сверкающий танец смерти, чтобы она вписывалась в его проклятый ковер. Превращая жизнь в ювелирное изделие, в красивый, бессмысленный груз.
Это была книга не о жизни, а о бегстве от нее. О том, как можно построить тюрьму из красоты, как можно умереть, захлебнувшись в собственных ощущениях. Это был крик. Тихий, удушенный крик в подушку из бархата.
Говорили, что прототипом был Монтескью, граф какой-то там, денди, фантом, скользящий по парижским салонам, весь из себя утонченный и пустой, как выеденное яйцо. Может быть. А может, это был собирательный образ всех, кто чувствовал себя чужим в этом новом, грохочущем веке. А может, это был сам Гюисманс, глядящий в зеркало и видящий там призрак усталости и отвращения.
И когда она вышла… о, когда она вышла! Это был скандал. Натуралисты, эти крепкие мужики, что нюхали грязь и писали о ней без прикрас, они плевались, говорили, что это яд, что это конец всему. Золя, их вожак, говорят, чуть не задохнулся от негодования. Но другие… те, кто чувствовал то же самое, кто тоже задыхался от этой липкой, сладкой пошлости, кто искал выход, пусть даже в безумии или в искусственности, они… они увидели в ней себя. Она стала их знаменем. Их библией. Декаданс, шептали они, вот оно. Вот куда мы идем. Вниз, в красоту распада.
И потом… потом этот англичанин, Уайльд, взял ее, эту книгу, и вложил в руки своего Дориана Грея. И она там, в той истории, стала не просто книгой, а отравой, медленно действующим ядом, что отравляет душу, показывает ей все мерзости и соблазны, заставляя ее гнить изнутри, пока лицо остается молодым и красивым. Вот какое влияние она имела. Как семя разложения, брошенное в плодородную почву.
А сам Гюисманс? Он не остановился. Нет. Он пошел дальше, или глубже, или еще куда-то в эту темноту. Он писал про сатанизм, про черные мессы, гоняя своего нового героя, Дюрталя, по самым грязным подвалам души и мира. И потом… потом он нашел Бога. Или Бог нашел его. Он ушел в монастырь, или почти ушел, стал послушником, и последние его книги – это уже совсем другое, это поиск спасения, это запах ладана после запаха серы и искусственных духов. Как будто, пройдя через всю эту грязь и всю эту вычурную искусственность, он смог увидеть что-то… настоящее. Или просто устал. Устал от всего, даже от собственного декаданса.
Но «Наоборот»… она осталась. Как памятник. Памятник эпохе, памятник человеку, который пытался построить свой рай из мусора и гнили, и который показал всем, что красота может быть смертельно опасной, а искусственность – единственным убежищем от невыносимой реальности. И до сих пор, когда листаешь эти страницы, чувствуешь этот странный, болезненный аромат – смесь старой бумаги, экзотических ликеров и той невыразимой тоски, что жила в сердце последнего из рода дез Эссентов, а может, и в каждом из нас, кто хоть раз чувствовал себя… наоборот. Против шерсти.
Давид с головой Голиафа
…и вот она, висит там, на стене, не просто краска на холсте, нет, но какая-то черная дыра, высасывающая воздух из легких, оставляющая лишь привкус старой пыли и чего-то еще, чего-то вроде запекшейся крови, хотя, конечно, ее там нет, невидимая, но чувствуешь ее, как чувствуешь приближение грозы задолго до первого раската грома. Это «его» работа, Караваджо, тот самый, что сам был беглец, убийца, человек, которого жизнь и смерть пережевали и выплюнули где-то на обочине, и вот он, выплюнул «это» обратно на мир, эту… эту правду, завернутую в ночь.
Свет. Не тот свет, что льется из окна в солнечный день, нет, и не тот, что мягко скользит по бархату или атласу, а свет резкий, жестокий, словно луч фонаря, выхватывающий из непроглядной тьмы лишь то, что нужно, только то, от чего нельзя отвернуться, что бьет прямо в глаза, обжигая сетчатку. И из этой тьмы, этой бездонной, всепоглощающей тьмы, что, кажется, могла бы поглотить и саму стену, и весь зал, и тебя самого, если бы ты позволил, выступает он.
Мальчик. Да, мальчик, еще не мужчина, с гладкой кожей, не тронутой ни ветром, ни горем, но уже… уже надломленный. Его лицо не сияет триумфом, нет, и в глазах нет ни праведного гнева, ни ликования победителя, ничего такого, о чем поют в церквях или пишут в книгах для детей. В его глазах – усталость. Глубокая, древняя усталость, которая, кажется, пришла к нему не с годами, а с этим… с «этим». Он смотрит на то, что держит, не с гордостью, не с отвращением даже, а с какой-то тихой, мучительной печалью, словно это не трофей, а тяжесть, которую он вынужден нести, бремя, которое легло ему на плечи с того самого момента, как камень покинул его пращу, а меч опустился. Руки его напряжены не от усилия, а от невидимого груза, который не измерить ни в фунтах, ни в унциях, но который гнет его к земле сильнее любого металла.