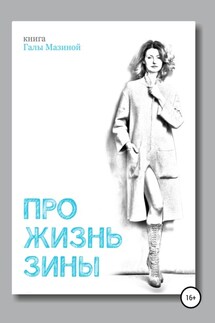Колиивщина - страница 21
На пороге куреня старый, немного сгорбленный, но еще крепкий еврей брил запорожцев. Захватив в пригоршню оселедец, он вертел голову запорожца то в одну, то в другую сторону, дергал кверху, задирал назад, а тот красный, словно из него тянули жилы, кряхтел, сопел и тихонько поминал черта.
В просторном курене, аршин сорок длиной, людей было немного. В противоположном от двери конце, ближе к кухарской половинке, горели две свечки, около них на перевернутой вверх дном бадье стояло ведро с медовой варенухой. С десяток запорожцев по очереди черпали ковшом. Закусывали вяленой таранью, лежавшей тут же, на бадье.
– Будь ты неладен, всегда так: когда дома пообедаешь, и тут зовут, – воскликнул после приветствия Роман. – И не просите, не сяду, – он уже сидел по-татарски, поджав под себя ноги. – Что ты припал как вол к луже! – толкнул Роман высокого запорожца и потянул руку за коряком.
– Ух, матери твоей дуля! – довольно крякнул, хлопнув его по спине, здоровенный носатый запорожец. – Бойкий ты, и говоришь складно.
– Максим, чего стоишь? – сказал Данило Хрен, приглаживая неровные усы. – Садись вот тут, рядом со мной.
– Чего это у тебя левый ус наполовину короче?
– Порохом спалил. Костер раскладывал. Такие были усы.
– Хоть бы подрезал…
– Короткие будут совсем. Потерплю, он скоро отрастет.
– Поспеши, Максим, – протянул ему коряк Роман, – а то сам выпью.
– Этот выпьет, – показывая большие крепкие зубы, засмеялся носатый. – Истинный казак. Знаешь, как когда-то бывало, в сечевики принимали? Не слышал? – Рассказчик поудобнее уселся, пососал трубку. – В первый день берут казака запорожцы на сенокос. Сами возьмут косы – и на луг. А ему кашу поручают варить. «Крикнешь, – говорят, – с могилы, когда будет готова». Сварит тот кашу, выйдет на могилу, и начинает кричать. Запорожцы лежат себе поблизости в кустах – и ни гугу. А у того каша уже пригорает, он чуть не плачет. Так вот и сгорит каша. Вернутся и прогоняют его. А иной зайдет на могилу, позовет раза два, а потом плюнет и вернется к казанку. «Ну, вас, – скажет, – ко всем чертям, кабы были голодны, сами бы пришли» – за ложку и садится есть. «О, это наш, – говорят, – этого можно принять, человека по еде видно».
– То когда-то было… – бросил Жила.
– Было. А теперь…
Носатый запорожец мотнул рукой.
– Перевелась Сечь. Видно, скоро ее совсем разрушат. Царицыны люди все здесь околачиваются, одни ее указы какие-то возят, другие в пушки заглядывают да челны щупают, а третьи, черт бы их побрал, так и вовсе не знают, зачем толкутся. Не та Сечь, не та. Даже татары не те стали. Не разберешь – мирные они или немирные. Едут к нам с товарами, а мы к ним: до чего дошло – накидываемся друг на другу.
Максим подержал коряк в руках, выпил варенуху и молча повесил коряк на бадью.
– Почему мало пьешь, сам говорил дорогой, что хочешь напиться? – удивленно поднял брови Роман.
– Хотел, да уже расхотел.
– Не разберу я тебя, Максим, – Роман оборвал кусок тарани, пососал и снова положил на цебер. – Чудной ты какой-то. Иной раз привередничаешь, да только не должно бы этого быть. Откуда бы взяться этим прихотям?
– Не приставай! – бросил Зализняк, вынимая из медного кольца на поясе трубку.
– Нет, ты скажи, почему ты такой? – не отступался Роман. – Неужели тебе не хочется выпить?
– Хочется… как голодному по нужде выйти.
Роман приготовился сказать какую-то колючую остроту, но его перебил Хрен.