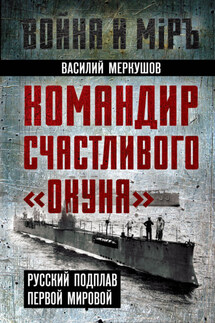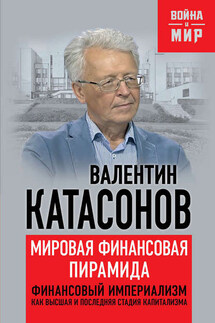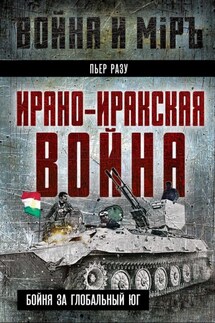Читать онлайн Василий Меркушов - Командир счастливого «Окуня». Русский подплав Первой мировой
© ООО «Издательство Родина», 2024
1914 год. Война
Июль. Финляндские шхеры. РейдВекшер (между Поркаллаудом и Лапвиком)
12/25 июля 1914 года
Бригада подводных лодок Балтийского моря в составе 1-го дивизиона: «Акула», «Минога», «Макрель», «Окунь» (тип Бубнова); 2-го дивизиона: «Аллигатор», «Дракон», «Кайман», «Крокодил» (тип Лэк); транспортов-баз «Хабаровск» и «Европа», старого миноносца «Перископ» (служившего катером для ловли мин при учебной стрельбе) стояла в Балтийском Порту[1], готовясь в час ночи выйти на двухдневные маневры с надводным флотом.
Оба наших миноносца отсутствовали: «Послушный» стоял в Гельсингфорсе в доке, а «Молодецкий» ушел в Кронштадт за различными материалами для бригады.
Сегодня в семь часов утра начальник бригады контр-адмирал П. П. Левицкий и начальник 1-го дивизиона капитан 2 ранга С. Н. Власьев[2] ушли на «Перископе» в Ревель на заседание для ознакомления с программой предстоящих маневров.
Днем на подводных лодках происходили обычные работы, а вечером у нас должны были собраться кое-кто из офицеров. Около девяти часов вечера, когда многие из гостей уже прибыли, прибежал матрос с докладом, что меня срочно просят на «Хабаровск», так как произошли какие-то перемены относительно предстоящих маневров.
Простившись с гостями, которые тоже, впрочем, заторопились на свои суда, отправился на транспорт и от вахтенного начальника подводной лодки «Акула» мичмана Терлецкого[3] узнал, что в восемь часов он был вызван начальником дивизиона к телефону и получил приказание передать командирам, чтобы лодки, насколько возможно, пополнили судовые запасы и приготовились к походу в финляндские шхеры на неопределенное время.
На вопрос, что случилось, капитан 2 ранга Власьев сообщил, что Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, требования которого совершенно неприемлемы. Сербия просит нашего заступничества, потому вместо обсуждения деталей маневров собравшимся на совещание на крейсере «Рюрик» приходится обсуждать мероприятия для подготовки к войне, так как командующий флотом Балтийского моря адмирал Эссен не разделяет мнения Петербурга о возможности мирного разрешения конфликта.
Таким образом, убийство 15/28 июня 1914 года в Сараеве наследника престола может привести нас к войне с Австро-Венгрией и, вероятно, Германией как ее союзницей.
Получив такие сведения, поехал на «Окунь», снялся с якоря и, подойдя к борту «Хабаровска», пополнил с него запас пресной воды и принял кое-какую мелочь, после чего съехал на берег проститься с женой.
Вернувшись на транспорт, нашел начальника дивизиона, сообщившего, что вчера, 11/24 июля, австро-венгерский посол вручил министру иностранных дел Сазонову копию ультиматума, накануне предъявленного Сербии. Ультиматум требовал прекращения великосербской пропаганды, принятия под контролем Австро-Венгрии мер для раскрытия заговора, приведшего к убийству Франца-Фердинанда и его жены, и наказания участвовавших в заговоре сербских подданных.
На ответ дается сорок восемь часов – до шести часов вечера 12/25 июля, то есть сегодня.
Вчера же от Александра Сербского пришла телеграмма на имя государя с мольбой принять участие в судьбах Сербии. Послу в Вене было приказано предложить посредничество России и просить австрийское правительство продлить срок ультиматума, чтобы до его истечения успеть что-либо сделать для улаживания возникших осложнений. Кроме того, Россия просила все другие державы поддержать ее просьбу. Англия и Франция охотно откликнулись, ответ Австрии пока неизвестен.
Во всяком случае, на мирный исход надеяться трудно, потому приказано: минным заградителям перейти в Поркаллауд и быть в готовности к постановке минного заграждения поперек Финского залива; бригаде подводных лодок отправиться на рейд Векшер, остальному флоту собраться в Гельсингфорсе. Ожидая нападения германского флота еще до официального объявления войны, адмирал Эссен приказал перевести весь русский флот в труднодоступные финляндские шхеры, где он мог спокойно мобилизоваться, чтобы встретить врага во всеоружии.
Влияние войны ясно почувствовалось всеми, но не вызвало на бригаде каких-либо признаков паники или малодушия. Между тем, бригада состояла из устаревших, с изношенными механизмами, медленно погружавшихся (3–5 минут) подводных лодок проектов 1903–1906 годов, то есть насчитывавших от восьми до десяти лет службы, что для быстрого прогресса техники было слишком много.
Ни в одном из флотов мира такие подводные лодки не состояли в списках не только боевых, но даже учебных судов; только в России из-за семилетнего перерыва в подводном судостроении (1906–1912 годы) бригада ветеранов числилась в составе боевых судов Балтийского флота, ибо других подводных лодок не существовало.
Лучшая наша лодка «Акула» (проекта 1906 года, вступила в строй в 1911 году), 360 тонн водоизмещением, со скоростью на поверхности 12,5 узла системы Бубнова, постройки Балтийского завода находилась в полной исправности. Ее командиром был капитан 2 ранга Власьев, он же – начальник 1-го дивизиона подводных лодок.
«Минога» (проект 1906 года, вступила в строй в 1909 году), 117/144 тонны (тип Бубнова, Балтийского завода), незадолго перед этим получила серьезное повреждение в машине и вместо 12 узлов могла давать лишь 9,5-10 узлов на поверхности. Ее командиром был лейтенант Ильинский[4].
«Макрель» (проект 1903 года, вступила в строй в 1909 году), 140/177 тонн (тип Бубнова, Балтийского завода), ходила с лопнувшим фундаментом дизель-мотора и имела один из рамовых подшипников крепленым на железных планках. Ход оставался прежний – 8 узлов. Командир – лейтенант Карабурджи[5].
«Окунь» (проект 1903 года, вступил в строй в 1909 году), 140/177 тонн (тип Бубнова, Балтийского завода), имел трещину в одном из поршней (тронков) четвертого цилиндра дизель-мотора: лодка уже месяц ходила с ней, так как заказанные зимой 1913/14 года запасные поршни (тронки) все еще не были доставлены заводом Нобеля из Петербурга. Ход – 8 узлов, командир – лейтенант Меркушов.
Из лодок 2-го дивизиона (проект 1904 года, вступили в строй в 1911 году), 410/432 тонны (тип Лэк, сборка завода Крейтон в Петербурге), «Крокодил» находился в плачевном состоянии, так как из четырех бензиномоторов только два на одном борту были в порядке. Лодка делала переходы, работая бензиномоторами исправного борта и электромоторами на неисправном; ход около 6–6,5 узла.
Произошло это потому, что в зиму 1913/14 года предполагалась замена бензиномоторов заказанными в Германии дизелями, которые рассчитывали получить в январе 1914 года, из-за чего ремонт старых двигателей совершенно не производился. В январе же дизель-моторы не пришли, немцы всячески тянули их доставку, и, прождав напрасно всю зиму, в мае пришлось все же кое-как, на скорую руку, чинить старые бензиномоторы, а потом всю кампанию мучиться с ними. Командиром «Крокодила» был лейтенант Подгорный.
Остальные лодки того же типа Лэк: «Аллигатор» (капитан 2 ранга Вальронд[6]), «Дракон» (старший лейтенант Гудим[7]), «Кайман» (старший лейтенант В. Дудкин[8]) были в полном порядке и могли давать до 8 узлов.
Эти четыре американских «больших деревянных сундука», как мы их называли, имели над прочным корпусом деревянную надстройку (в виде футляра), дававшую шестнадцать тонн плавучести, без которых лодки не могли бы плавать.
При погружении в эту надстройку помпами накачивалось пятьдесят тонн воды, что в свежую погоду представляло серьезную опасность, особенно при всплытии; когда первым делом освобождались от нижнего, внутреннего балласта, лодка теряла остойчивость и, если становилась поперек волны, могла быть опрокинута ее ударом.
Деревянная надстройка на солнце высыхала, коробилась и при надводном плавании начинала пропускать воду; то же случалось, если после многократных погружений доски разбухали и выпирали одна другую. И то, и другое причиняло массу хлопот личному составу, так как лодка получала переливающийся груз на самый верх, что в свежую погоду при недостаточной бдительности могло привести к опрокидыванию вверх килем.
«Окунь»
13/26 июля
В 3 ч. 30 м. утра бригада подводных лодок с вспомогательными судами снялась с якоря в Балтийском Порту и пошла в финляндские шхеры.
На высоте маяка Пакерорт мы были приятно удивлены, увидев идущую из Ревеля бригаду крейсеров: «Громобой», «Баян», «Паллада» и «Адмирал Макаров», высланную для охраны входа в Финский залив.
Пропустив их, пошли дальше и в 8 ч. 50 м. утра пришли на рейд Векшер (между Поркаллаудом и Лапвиком), где и стали на якорь.
Подготовлявшаяся во время перехода на обоих транспортах – «Хабаровск» и «Европа» – проверка мин теперь пошла полным ходом, и подача их на лодки продолжалась весь день; в три часа ночи 14/27 июля последняя мина была заложена в аппарат.
Одновременно с подачей мин пополнялись запасы топлива, смазочного масла и т. п. Работа кипела, и вечером команда работала с тем же неослабевавшим увлечением, что и днем.
Наконец, тихая теплая июльская ночь спустилась над недвижным рейдом; при ее неверном освещении окружающие острова выросли, сдвинулись и тесно обступили стоявшие суда.
Шум голосов, треск моторов и плеск весел на шлюпках да грохот работающих лебедок одни нарушали тишину, далеко разносясь по сонной воде.
Между судами шныряли моторные и гребные шлюпки; паровые катера с баркасами на буксире медленно передвигались от транспортов к подводным лодкам и обратно, доставляя готовые боевые мины и снимая с них учебные.
Здесь, на этом неизвестном дотоле рейде, бригада лихорадочно готовилась к бою, чтобы утром встретить врага во всеоружии…
Команды лодок, уже закончившие все работы, усталые и довольные, крепко спали в своих койках, не обращая внимания на шум голосов и грохот лебедок.
С каждым часом становилось все тише и тише, меньше оживления на рейде – работа закончилась…
Наступила полночь.
На «Окунь», стоявший у борта «Хабаровска», подавали последние мины. Сгустившаяся тьма заволокла море и небо, не стало видно ни судов, ни окружающих островов, и только неумолчная вода тихо плескалась у борта, напевая свою неизменную песню…
Загрохотала лебедка, спуская на лодку последнюю мину, и все стихло.
На палубе блеснул слабый свет ручного электрического фонарика, выхватив из тьмы небольшую группу работавших у минного аппарата людей. Конечно, разговор вертелся вокруг неожиданно свалившейся на голову войны, и минно-машинный старшина вдруг тихо протянул: «Кажись, орденишки заработаем…» – на что все остальные в тон ему так же тихо ответили: «Вероятно…»
А ночь по-прежнему была такой же тихой; все замерло, ни малейшего шума, ни малейшего шороха не доносилось с покрытых лесом островов. Все говорило о мире и тишине и как-то не верилось, что, быть может, завтра загрохочут пушки и смерть начнет собирать обильную жатву…
14/27 июля
Подводные лодки заряжали батареи электрических аккумуляторов, и команде дали отдых, свезя ее на один из островов, где люди купались и стирали белье.
Транспорт «Хабаровск» с утра ушел в Ревель за вторым комплектом боевых мин, машинным маслом, топливом и прочим.
Около восьми часов вечера на эскадренном миноносце «Пограничник» пришел командующий флотом адмирал фон Эссен, поблагодарил за быстрое приведение подводных лодок в боевую готовность и сказал, что везде, где он только ни был, находил части флота вполне готовыми к бою.