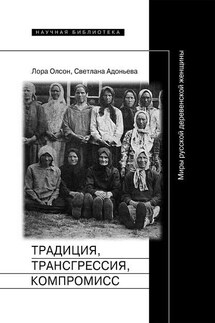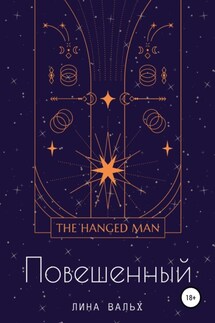Комплекс Чебурашки, или Общество послушания - страница 21
Оказывается, что особенно опасна та похвала, которая выделяет данного ребенка в сравнении с другими детьми (быстрее других растет, самый спокойный, самый красивый и др.):
То есть даже мама сглазить может. Вот похвалит его, скажет: «Ой, какой хороший, красивый» – а он возьмет и заболеет.[64]
А я и внимания не обращаю. А она потом сидела так со мной, говорила, говорила, потом: «Ой, Игорёчек какой большой стал!»[65]
И обычно, вот когда, вот просто одумаешь случайно, что «ой, какой там, это, ты у меня никогда не плачешь, ничего».[66]
Ребенка выделяют за внешние качества из ряда прочих. Если его хвалят посторонние, то выделяют из ряда других деревенских детей. Если его хвалит сама мать, то, по сути, она хвалится ребенком.
Как? «Ой, надо же, у тебя как всё хорошо!» Как будто лучше людей или как ли.[67]
Опасность такого выделения из общего уровня описана Джоржем Фостером через известный «образ ограниченного блага».[68] По его идее, в когнитивной основе крестьян всего мира лежит образ ограниченных, конечных ресурсов материальных и символических благ. Следовательно, переизбыток блага у одного человека влечет за собой нехватку его у другого. Имеющий лучшее узурпирует блага остальных.
Теперь обратим внимание на самых незаметных, но, по нашему мнению, главных движущих лиц оприкоса – рассказчиков-толкователей. Почти все охотно обсуждавшие с нами эту тему – матери, у которых есть дети, и бабушки, у которых есть внуки. Получается, что в речевую компетенцию определенной социальной страты – деревенских матерей – входят матрица подобной практики и конвенции рассказывания. По рассказам матерей, главным пострадавшим является ребенок. Именно он в центре агрессии, на него она направлена. Как уже было отмечено несколько раз, оприкосить может «кто угодно». Но распознает факт оприкоса ребенка мать или бабушка, «диагностика» оприкоса является их компетенцией в этих рассказах. Матери учатся диагностировать сглаз от своих матерей и свекровок, а также от других старших женщин:
Всё раньше мама мне говорила, скажет, ребёнка сама можешь оприкосить.
Мне раньше мама всё говорила…
А опытные бабушки, так эти бабушки не разрешали вот так вот подходишь, што: «Ай! Ой!»
Наученная старшими мать, наблюдая в поведении своего ребенка беспокойство, соотносит его появление с посещением вредителя. Очевидно, что выбор вредителя не случаен. Он падает на того, кто находится под подозрением у матери или у старших женщин. Возможно, именно поэтому нет какого-то одного человека, который постоянно оприкашивает детей. В каждом случае этим человеком может быть тот, кого назначит вредителем та или иная мать и кто, по ее мнению, не просто хвалит, но, хваля, оприкашивает.
<А это от человека зависит, который говорит?>
Очень много зависит от человека. Есть такие злые языки… Есть такие. В деревне всё равно человек-два найдётся, которого опасаешься. Отойти лучше в сторонку.
Здесь наши выводы относительно оприкосов в севернорусской деревне совпадают с выводами антрополога М.В. Хаккарайнен, которые она сделала в результате анализа локальных представлений о болезнях и лечении у чукчей: «…несмотря на то что объектом сглаза являются дети, само это представление является выражением отношений между взрослыми».[69]
Остается только охарактеризовать участников этих отношений. Анализ сценария оприкоса в севернорусской деревне показывает, что старшие женщины, толкуя ситуацию как сглаз, учат младших конвенциям страха. Освоение конкретной матрицы