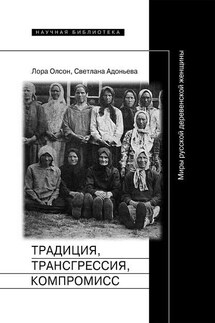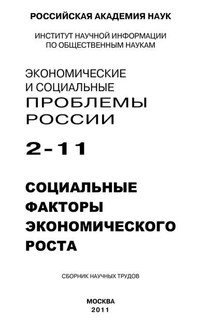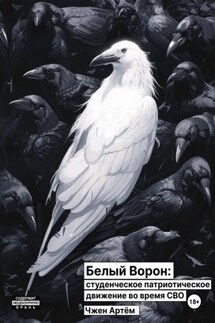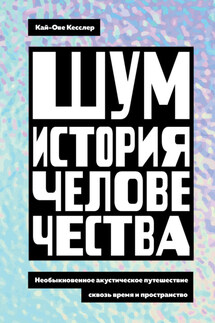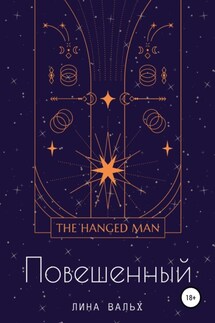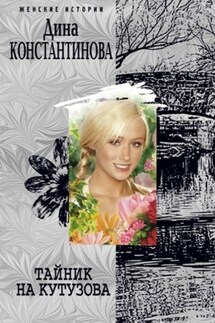Комплекс Чебурашки, или Общество послушания - страница 9
Появление конкуренции, духа соревновательности, пусть и освященного, делает социальную мобильность нормой. Постепенно в недрах европейских династических государств с их единовластием и правом наследования по майорату[21] возникает компенсирующая наследственные притязания родственников прослойка специалистов – легистов, облатов, дворян. Они не обладали правом наследования материальных богатств «дома» и знатности, но получали блага за компетентное служение (первыми «экспертами» европейских монархов были образованные монахи, не имевшие наследников). В России Указ о единонаследии Петра I (1714 год) вынудил дворянских сыновей, оставшихся безземельными, поступать на государственную службу. Издавая указ, Петр добивался защиты крупных землевладений от дробления, а дворянского сословия – от обнищания. Кроме того, право на наследство, закрепленное только за одним сыном, не обязательно старшим, вынуждало его братьев исправно служить на государственной службе.
В таком государстве складывается иная, кроме традиционной матримониальной, стратегия социальной мобильности – система службы и подготавливающая к ней система образования. Прослойка специалистов/экспертов формирует современное представление о государстве на основе презумпций римского права и преимущественно ненаследственном праве на власть.
Конвенции поощрения в российской истории Нового и Новейшего времени связаны со стратегиями социальной мобильности нематримониального, экспертного, типа.
«Благодарность» наряду с похвалой, почестью входит в парадигму конвенциональных актов лаудации, будучи при этом чуть ли не самым рутинным и бессознательным из них. Благодарность, по определению современных словарей, во-первых, «чувство признательности за оказанное добро», во-вторых, «выражение этой признательности». Третье значение слова из словаря Ушакова помечено как разговорное и эвфемистическое – «взятка». Между чувством и коррупционным актом располагается норма благодарения. По мнению Эмиля Бенвениста, «помимо нормального процесса обмена, когда одна вещь дается в обмен на другую, имеется и другой вид обмена – кругооборот благодеяний и признательности, когда нечто отдается безвозмездно, предлагается в знак “благодарности”»".[22]
Словарь Ушакова игнорирует значение благодарности как жанра речевого этикета, меж тем императив воспитанности диктует благодарение даже в том случае, если вы не испытываете никаких положительных эмоций по поводу «благодетеля». Лингвисты М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова относят благодарность к современным этикетным жанрам наряду с приветствием, прощанием, извинением и пр.[23]
Известно, что слова «благодарность» и «спасибо» имеют относительно позднее происхождение. В словаре «Живого великорусского языка» В. Даля слово «благо» описано через прилагательное «благий», которое «выражает два противоположных качества: церк. стар., а частью и ныне: добрый, хороший, путный, полезный, добродетельный, доблестный; в просторечии же: благой, злой, сердитый, упрямый, упорный, своенравный, неугомонный, беспокойный; дурной, тяжелый, неудобный».
Очевидно, что сложносоставные слова с корнем «благ-» восходят к церковно-славянскому значению. «Спасибо», как известно, является стяжением выражения «Спаси Бог». Благопожелание «Спаси Бог» служило этикетным ответом на любое благодеяние.