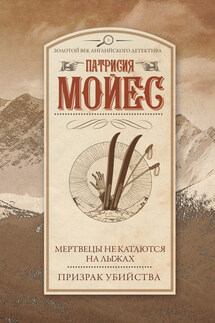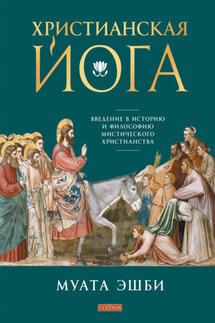Кормилец Байконурского стройбата. Повесть о юности армейской - страница 10
В то время на полигоне работало 82 или 83 военно-строительных отряда (ВСО). Это 33—35 тысяч человек. Да, это меньше, чем остального населения раза в полтора, но… Традиционно солдат, а особенно военный строитель, потреблял хлеба гораздо больше солдата-ракетчика или гражданского лица. Кормили их, как правило, неважно: крупы – перловка или овёс, гречка – это за счастье. Мясо в супах, как правило, жирная свинина из местных свинарников. Рыба – солёная в хлам селёдка, отмоченная в ваннах от лишней соли. Порции были невелики, да и воровали пайковые харчи все кому не лень: офицеры и прапорщики, которым нужно семьи кормить, деды-старослужащие и солдаты на блатных должностях (каптёрщик, чайханщик, повар, хлеборез, хозвзвод и т. п.). В результате рядовой на лопате или другой тяжёлой работе возмещает недостаток калорий хлебом, ибо больше нечем.
Да, ещё небольшое отступление. Что значит карусельные печи? Пара толстенных цепей на валах, разнесённые на два метра, соединены полками, на которых стоят формы, склепанные по три штуки, по семь штук на каждой полке. Итого двадцать одна. Самих полок пятнадцать-шестнадцать на одну печку. Принцип работы как на велосипеде. Цепи крутятся при помощи звёздочек электродвижком через редуктор и медленно прогоняют полки с формами через две раскалённые докрасна жарочные камеры, где и происходит выпечка. Жар достигается горением дизтоплива, которое подаётся в печи паром из городской котельной под давлением в несколько атмосфер. Всё просто, как мычание, никакой автоматики. За состоянием выпекаемого хлеба смотрят солдат-печник и начальник смены, прапорщик, который и даёт команду на выгрузку. Хлебные формы выколачиваются об отрезок автомобильной шины в приёмный стол, оттуда перекладываются на деревянные лотки в контейнеры на колёсах и уезжают на остывание и затем на склад готовой продукции, откуда грузятся в грузовики-хлебовозки и развозятся по полигону. Когда хлеб из форм легко не выбивается, ими со всей дури хреначат по железному краю стола. Формы, конечно, трескаются, ломаются, превращаются в алюминиевый лом, и их ежедневный ремонт является главной задачей и самой тупой работой слесарей. Формы, избежавшие поломки, смазываются растительным маслом и отправляются на формовку, где в них по новой закладывается тесто…
Тесто готовится в здоровенных трёхсотлитровых ёмкостях на колёсах, напоминающих азиатскую пиалу – дежах, которые закрепляются в тестомесильных аппаратах. Они крутятся, закреплённые на вращающихся платформах, а сверху железная рука перемешивает тесто до нужных кондиций. За процессом следит солдат – тестомес. На эту должность ставятся самые опытные и толковые бойцы. Тесто должно быть не густым и не жидким, сколько надо добавить воды, зависит от качества муки, это делается, что называется, точно на глаз. В процессе замеса добавляются прессованные дрожжи, просто в дежу кидается килограммовый кирпич дрожжей прямо в бумажной упаковке. Когда, помнится, я возмутился по этому поводу, товарищи прапорщики мне объяснили, что в процессе замеса и формовки тонкая бумага распадается чуть ли не на молекулы. Проблема посторонних включений в другом, я потом расскажу…
После замеса дежа перекатывается мускульной силой и крепится к подъёмнику, который вываливает её содержимое в бункер тестоделителя, который формует тесто в формы, которые ставятся на полки в контейнеры и идут на растойку. Это процесс, когда в тесте размножаются дрожжи и придают хлебу пористую структуру. Начальник смены смотрит, когда тесто в форме достаточно поднимется, и отправляет его в печь. Опять же точно на глаз. Если не выдержать достаточно времени, верхняя корка выпеченного хлеба будет рваная и некрасивая, но, когда идёт призыв, на это не заморачиваются: главное вал, а солдаты всё сожрут и ещё добавки попросят. Вот и весь технологический процесс. В штате предусмотрена лаборатория, по факту её не было, но я так и не понял, зачем она вообще нужна, если единственный прибор определения состояния и качества теста и хлеба – это твои глаза и твой собственный язык.