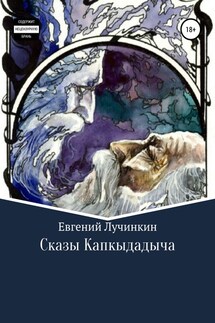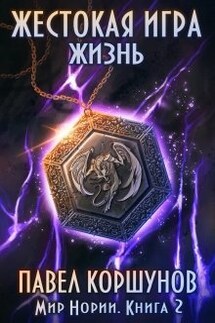Квянтовая психология. Очень просто о самом главном - страница 11
Чем же они отличаются от нас – “простых смертных”? Ты помнишь – схем я не люблю, поэтому объяснюсь “на пальцах”.
У “обычного” человека точка восприятия зафиксирована жёсткими рамками! мировоззрения, у “догматиков” – невероятно жёстко, (итальянцы метко назвали в своё время это состояние – dura mater или, "по-нашенски" – твёрдый, т.е. дурак). У людей, склонных к познанию мира, “лёгких на подъём”, точка восприятия способна смещаться и “переводить” кристалл восприятия в разные положения, тем самым пропуская информацию с разных граней, вбирая жизнь в соответственном многообразии.
У сумасшедшего человека точка восприятия (вспомни о приложениях!) вольно блуждает, не давая возможности видения цельной картины действительности, а лишь отдельных, разорванных фрагментов с совершенно произвольным соединением. “Простой народ” не случайно с боязливой почтительностью относится к убогим, так как те иногда “режут правду-матку прямо в глаза” при всей своей неадекватности. А откуда ж ей взяться? Так как сам внутренний цензор у этого убогого напоминает “царя правителя” в постоянном отпуску, отдавшему бразды правления сложным царством государством под начало всяким Емелькам Пугачёвым да Соловьям – разбойникам.
Сумасшедших иногда сравнивают с теми же гениями, хотя и напрасно. Посмотри сам, если гений и “выпадает” из социума, то по причине выраженного отличия в целенаправленной! реализации человеческих способностей и проявлении сущности мироздания – Паганини, Моцарт Леонардо да Винчи), а сумасшедший – “листик на ветру”, выпавший из социума по причине полной или частичной дезадаптации к освоению потоков жизни и неподвластности сознательным формам общежития.
И всё же, многие из нас, несмотря на глобальные изменения в жизни этого периода – выбор профессии, появление семьи – продолжают “носиться” с некими надеждами на что-то лучшее и большее. Образно это напоминает стояние под гигантской снежной лавиной, которая вот – вот обрушится на “ничего не желающего! подозревать" селянина, ещё и глазки прикрывшего ручонками и громко орущего: “ничего не вижу, ничего не слышу, а подавайте сюда Деда Мороза с мешком подарков!”. Состояние опасное и напряжённое, чреватое всякими неожиданностями и "срывами" "на ровном месте".
А откуда это берётся?
Оглянемся опять в детство, где у всех рассказанных историй – непременный happy end и Иванушка – дурачок мало того, что превращается в царевича, да ещё и завоёвывает любовь шестнадцатилетней! красавицы (тоже, между прочим, царицы). И так на “каждом шагу” внедряется в совершенно открытое сознание довольно сомнительная штуковина: “ты, мол, верь да надейся, и всё! будет хорошо! "Тебе сказочно повезёт!" О честном труде, как средстве достижения желанного богатства, практически во всех сказках и историях говорится пространно и всё больше через помощь неких потусторонних сил, счастливо проявляющихся главному герою. Слушающий ребёнок, конечно, всегда олицетворял себя с ним, и у него и мысли не возникало, что может по-жизни оказаться “третьим пескарём” проходной сцены о рыбе – ките.
И так почти всегда и почти во всём… Никаких тебе потусторонних сил, а больше “муть” повседневности да “белёсые зенки вечно пьяных соседей”.
Готовят ли нас к этому?
А теперь представь себя, нет, послушай – как бы глубоко не был потоплен смысл сказочного happy end ‘а в подсознание, наличие его всё же несомненно. Это ведь разрывающий нас конфликт – не заметный, но действенный. Особенно в следующем ЧЕТВЁРТОМ периоде жизни.