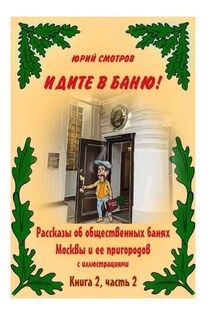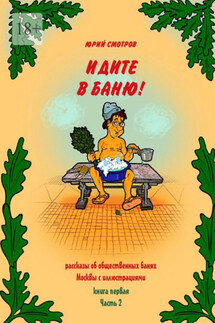Читать онлайн Виктор Зимаков - Лебедь черный
Редактор Дмитрий ЗИМАКОВ
Дизайнер обложки Елена ПЕТРЯЕВА
Корректор Светлана ПРОКАЕВА
© Виктор Федорович Зимаков, 2018
© Елена ПЕТРЯЕВА, дизайн обложки, 2018
ISBN 978-5-4490-9031-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЗИМАКОВ Виктор Федорович. Родился на Алтае в 1947 году. После окончания Красногорской школы поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище. Служил в различных подразделениях Забайкальского военного округа. Офицер запаса с 1990 года. Проживает в Барнауле.
Книга о Сибиряках которые в делах ратных уничтожали фашистов, прыгали на вражьи позиции с самолетов без парашютов. Отстаивая веру истинную, избирали вольно Голгофой Красную площадь Москвы. Тяжелая доля штрафников и юмор из жизни жителей этого прекрасного края. Одна из версий нахождения золота Колчака на Алтае.
Автор.
ПЛАЧ РОССИИ
Посвящается Кошелевой Софии Ивановне
Так будет каждому по вере —
небесный дом и брачный пир,
и по одежде будет мера,
духовный свет, душевный мир.
Холмогоров А.
Кладбища России, как вас много, и все разные. В одном схожесть: испокон веков наши предки для успения выбирали чистое, возвышенное и открытое солнцу место, ибо понимали, что здесь последняя ступень нашего земного бытия и первая к тому, кто создал наш мир, где хранят память о прошлом. Ушедшие в небытие жили с надеждой, что на их прах не упадет тень гроба последующего поколения, что они никогда не будут потревожены разочарованием потомков в их веке, не будут снесены их надгробия в угоды новым государственным потрясениям. Кладбище – суть-то «клад». Или, погост – опять же «погостить». А схоронить – всё тоже: сохранить что-то близкое, дорогое и необъятное.
А посадил ли ты цветы на могиле близкого своего? Сделал ли так, чтобы памяти ушедшего было уютно? А помолился ли ты о его грешной душе? Дал ли упокоение для вечной жизни? Камни надгробий над нашими потомками— это ступени в твое будущее.
РАСПЯТАЯ ПАМЯТЬ
Возвращаясь на исходе дня из командировки из Горного Алтая, на въезде в Бийск я решил «проведать» могилу своего деда Ивана. Оставив машину на обочине Чуйского тракта и обходя бугорки могил, памятники и покосившиеся кресты, вдруг услышал тихий, еле различимый с приговорами плач. Были в этом плаче какие-то особые рвущие душу звуки. Эти звуки напомнили мне погребальную песню, которую я слышал в детстве. Плач, песнопение, напутствие, уходящим в небытие, что их помнят, чтят и любят, и надеются на встречу на небесах. Плач был без надрыва, вскриков, как бы перекатом вместе с закатом солнца уходил за горизонт к дальнему лесу, едва различимому с горы, насыщая миром и покоем последний приют жизни человека.
Обойдя заросли боярышника и оказавшись перед небольшой поляной, я онемел от увиденного. Кто-то ради упокоения лишь одного своего родственника, словно бульдозером, снес всю память о других захоронениях на этом месте. Кресты, памятники, дерн с могильных холмов, оградки, венки – всё это, безжалостно вырванное с десятка могил, было безобразно свалено в одну кучу.
Новая, стальная, излишне высокая остроконечная стена железного частокола словно проводила границу между нелюдским кощунством и надругательством над обычаями, традициями христиан. Посередине этой металлической клетки возвышался огромный, не памятник, а какой-то уродливый мраморный постамент, отдающий холодом угрюмости, безвкусицей и попранием православных символов об умершем человеке. Разбросанные за этой массивной, неприступной оградой бутылки, банки из-под спиртного и другой мусор не поминок, а «пиршенства» неизвестных, говорили о нулевой морали тех, кто совершил этот вандализм. Даже взгляд с фотографии почившего в этой крепости, ещё молодого, мужчины, как бы с тоскою и упреком созерцал последствия нелюдского отношения к уже вечным своим соседям по несчастью.
И посреди этого хаоса опрятно одетая женщина преклонного возраста пыталась собрать то, что осталось от когда-то ухоженного места памяти о близком человеке. Красоту, статность, молодость, теплоту, доброту души не тронули невзгоды и трудности прожитых лет. Со вкусом уложенные волнистые волосы, плавный изгиб ещё темным бровей, пушистые ресницы, когда-то полнокровные чувственные губы не вызывали сожаления к её возрасту. И ещё глаза с необычной синевой, в них хотелось смотреть, разгадать причину их покоя, притяжения, глубины мысли. Как бы упреждая мою неловкость и растерянность, она первой начала разговор. Подтвердив моё предположение, что похоронен «новый русский», некий «бизнесмен», зверски убитый своими же подельниками, она тихим приятным голосом сказала:
– Жаль мне этих людей за их грех, не ведают о проклятии и возмездии. Нет, не от меня, Боже, упаси желать им плохого. Как меня в жизни не било, но так горько мне впервые. Они ведь и оградку с могилы моего мужа снесли, а там и для меня место было. Да Бог с ними, душой-то я и после смерти всегда с ним буду.
Редко удается быть слушателем, тем более пожилых людей, освященных мудростью, но что и как говорила эта красивая седовласая женщина, заставило меня забыть о времени и причине моего появления здесь. Послушаем же вместе этот рассказ о жизни трудной, долгой, но праведной.
ИСТОКИ РОССИИ
«Выходцы-то мы из Пензенской губернии. Крестьянствовали и деды, и прадеды. Я ведь на земле родилась. Родительница, будучи на сносях, ранним утром понесла поесть мужикам в поле, да видно уж судьба – родила меня в мокрой от росы траве. Матушка-мордовка, хоть и крещенная, возьми, да и назови меня Росиной. Долго потом священника уговаривали, чтобы тот, вопреки христианскому обычаю, окрестил меня этим именем. Тогда священник и предсказал родителям: «Много горя вашей дочери придется испытать, а вода еще не раз её крестить и испытывать будет». Погрузил он меня трижды в реке Чембарке, недалеко от Пензы, в теплой летней воде, а в первый раз-то пророчество в разгар войны Гражданской и сбылось. Белые, красные, а между них банды разных мастей.
В село наше Кукарки, что не далеко от Чембара, залетела такая вот вражья стая. Толком-то в деревне не знали, кого и за что будут казнить, потому мать нас, четверых ребятишек в хлеву и спрятала. Ну, а как за стеной начали рубить шашками мужиков, кто новой власти сочувствовал, а я с испугу и выбежала во двор. Хоть и двенадцать лет мне было, а на вид то больше, парни уже заглядывались. Бросились за мной бандиты, обезумев от крови, решили надо мной поиздеваться, загнали в соседний двор, а там – колодец. Поняли моё намерение, да уж поздно, давай по ногам стрелять. Чувствую – обожгло, как крапивой, да сгоряча всё-таки успела до сруба добежать и не оглядываясь, кинулась в открытое творило. Как падала, не помню. Спасло, что колодец широкий был, внизу подмыт, а воды по горло. Потом мне рассказали, что стреляли от злости злодеи в колодец. Хотели гранату бросить, да, спасибо, хозяин двора уговорил за бутыль самогона не осквернять источник.
Утром, только с подходом красных, бандиты покинули подворье. Родители уже не думали, что я осталась жива. Спустился мой дядя Михаил в колодец, увидел меня живой, от растерянности воды нахлебался. Я-то ни кричать, ни говорить не могла, потом ещё долго молча.
Атаман той шайки ещё и сельскую управу сжег, так что сельчане оказались без документов.
Метрики, то есть свидетельства о рождении, выписывали новые, со слов сельчан. Пьяный да малограмотный ревкомовец, тот, что писарем при сельсовете числился, вместо Росины меня Россией Ивановной записал, сразу и не заметила, что новым именем меня записали.
Вначале тридцатых крестьянам стало тесно на земле от законов, что Советы издали. Мужику-то воля нужна, а не свобода, что большевики предлагали, да и слово-то свобода – больше казенное, неживое, к чему-то обязывающее, а воля – где простор на душе, свет и дух благодати витает для творенья и добра. А далее Россия Ивановна для меня, вроде бы и просвещенного, сама того не подозревая выразила суть различия между свободой и волей в христианском понимании. Для нас, почитающих истинного Бога, нужна свобода от греха, свобода выбирать голос чистой совести.
За свободой от греха подальше мои предки за той волей – птицей в Сибирь решили податься, на Алтай. Благо на тех просторах землячка наша тоже из Пензы жила – Судовская Евдокия. В прошлом она была купчиха, основательница Барнаульского Богородице – Казанского женского монастыря. Там и монахини из нашей родни были. Вот они и помогли нам выправить нужные документы на переезд. Помогло и то, что дед Михайла, в отличие от моего отца, был купцом и до прибытия на Алтай, имел отношения и хороших знакомых среди старообрядцев. Несколько раз посещал в Москве их церкви и уже имел твердое намерение принять струю веру. Это и было причиной, что на новом месте, встретившись по рекомендательным письмам с местными староверами, нашел всяческую поддержку при обустройстве. Как бы там власть не притесняла верующих, но вот община Ефтея Долгова в Никольской заимке имела большой авторитет в здешней округе. Документ на жительство получали в районном селе Старая Барда (ныне Красногорское), а когда стали выделять семейству Кошелевых земельный надел, узрели мое необычное, но заверенное по закону печатью имя.
Долго дивились и решали – одну или две буквы «с» в моем имени оставлять для акта земли на мою душу. Аж до самого начальника района дошли, но тот по-своему определил:
– Раз в Сибирь из России приехала, пусть Россией Ивановной и останется.
Дали нам угодье гектаров тридцать в предгорье, место это в простонародье «чернью» называлось, от близости к необитаемой тайге. Нам сразу полюбилась та сибирская сторона. Не зря говорят, что Сибирь – хребет всей России, как-никак, неразведанная кладовая недр отчизны, родительница самых великих и красивейших рек и озер. Синь неба, зелень лугов, тайги, белки высоких гор, глазам и душе просторно, радостно, свежо, здесь воля человеку. Кто здесь побыл единожды, ему уже в другом месте тесно, скучно, неуютно. Земля сочная, благодатная. Тайга и речки для прокорма полны живностью. Разнотравье на лугах, полянах, что на взгорках, радугой отливаются, пьянят, умиротворяют, чаруют человека. А главное, народ, что рядом проживал, радушно воспринял появление наших семейств. Они были смешанного происхождения, мировоззрений, религий, культуры, языка.
Сибиряки – народ особый, своеобразный. Сама природа тех мест не приемлет людей слабовольных, мрачных, жадных да лживых. У подобных два пути – искать иную сторонку для дальнейшей жизни, либо силы изыскивать в себе, чтоб от таковых пороков избавиться, здесь добронравие в почете. Аборигены – алтайцы, кумандинцы, татары, поляки, русские, ссыльные с окраин Российской империи, исконно русские, бежавшие в погоне за волей, старой верой, но почему-то кликались «челдонами», «гуранами», «поляками», «кержаками». Уже не одно столетие жили в мире и согласии без оглядки на то, кто какому Богу молится, в каких национальных одеждах ходит, что в закромах да в доме имеется. Староверы Никольские, ну «кержаки» по-народному, несколько мешков семян, пшеницы, овса да ячменя без всякой оплаты в помощь привезли, и, видя, что из подвод у нас три телеги разбиты, свои оставили. По «божеской» цене – по обмену на ложки серебряные, что были у моей матери, дали двух стельных коров да жеребую кобылу. Поляки, что были сосланы при царе, обрусевшие, из деревни Тайна, те за обещания наших мужиков оказать помощь в постройке моста, выделили два плуга с бороной. Алтайцы, самые доверчивые и добродушные из обитателей тех мест, без утайки нашим охотникам показали добычливые места, научили, где и как лучше ловушки ставить на зверьё, поделились порохом да дробью. Татарин, увидев случайно меня на поле, привел за рога молодого барана с предложением выйти за него замуж. Дед Михайло приостановил сей торг, мол, у девушки есть уже нареченный, ну, а если по-доброму, то я от подарка не откажусь. Барана тот отдал, а через неделю татары из села Балыкса уже на расплод овечек привели. Отец же Иван в знак благодарности дал серебряные монеты, которые пошли на украшение одежды их женщинам. Удивительным было для нас это первое время, что все вроде разноверцы и народ разноязычный, а вот праздники равноденствия да солнцестояния справляли вместе: дружно, мирно и весело. Пасха для нас была первым праздником в этом месте. В этот день за одним столом со староверами сидели гости со всех окрестных сел – Ужлеп, Бубычак, Еронда, Сайдып. Кумандинцы готовили в казанах сочную, душистую да мягкую баранину. Алтайцы, рыбу по-своему высушенную, клали на общий стол. А брага, хмельная, веселящая, как ни странно, у трезвенников «раскольников – староверов» была. Её в логушках особо готовили, да в логушки наливали.