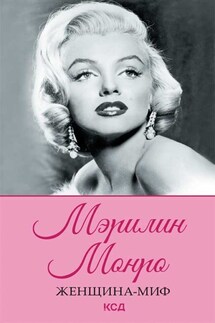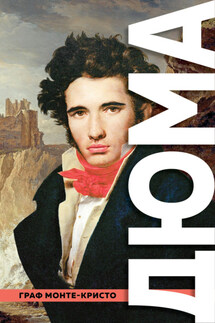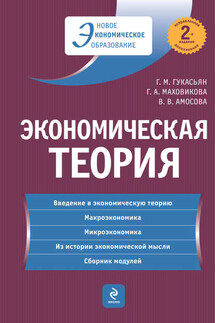Лента длиною в эпоху. Шедевры советского кино - страница 16
Границы между мифом и поэтическим вымыслом, между допуском и фальсификацией в XX веке зыбки. Немые фильмы Эйзенштейна, операторская работа его постоянного сподвижника Эдуарда Тиссэ и сегодня покоряют пластическим совершенством. Но есть в них еще и нечто глубоко личное, нечто, страстью и темпераментом изнутри нарушающее классическую гармонию и выверенное мастерство.
Эйзенштейновская реконструкция событий октября 1917 года была канонизирована советской историографией как документальный материал
Это – тема страдания и гибели беззащитного. Особенно – ребенка. Сам Эйзенштейн склонен был искать в этом вымещение жестокости, в детстве «не нашедшей своего приложения к мухам, стрекозам и лягушкам», – рижский «мальчик-пай» животных не мучал.
В этом объяснении, как мне кажется (и в некоторых других пунктах – тоже) больше своего рода стилизации а-ля Фрейд, которым молодой Эйзенштейн горячо увлекался, нежели автопсихоанализа всерьез. Ведь со стороны виднее художественный результат. Нет! Не сладострастие садистских и садомазохистских забав (а уж их-то мы насмотрелись на постсоветском экране), а душераздирающую жалость к жертве и сопереживание вызывают образы, порожденные памятью и трагическим видением художника. В могучем оркестре революционной эпопеи звенит и трепещет солирующая мелодия.
И мальчик, пускающий кораблик в луже крови, и рядом на пороге мать в обмороке с просыпанной крупой. И другой мальчик под копытами казацких лошадей. И убитая белая лошадь-красавица, поднимающаяся к небу вместе с лопастью разведенного невского моста, и руном падающие вниз к воде белокурые волосы убитой девушки.
И конечно, смертельный хаос на ступенях одесской лестницы под залпами карателей, вытекающий глаз старой учительницы, обезумевшая мать с мертвым сыном на протянутых руках и другая – та самая мать, кто последним своим взмахом руки толкает коляску с младенцем вниз по лестнице, к обрыву в море, – вот они самые знаменитые кадры мирового экрана.
Сценарные и режиссерские разработки, варианты, наброски, в обилии сохранившиеся в архиве постановщика, свидетельствуют, что за каждым кадром его фильмов стоят еще десятки сходных: избиения гимназистов полицейскими, издевательства над арестованными в участке, бесчинства обысков, вспоротые подушки и убитые старики во время еврейских погромов, расстрелы, виселицы – страшный мир, жертвы которого вопиют о возмездии.
Мучители всегда – власть предержащая и их холуи, прогнившая царская Россия. Авторское отождествление себя неизменно, едино – с жертвой ненавистного строя.
Революционные же расправы с врагами абсолютно справедливы и чуть-чуть «невсамделешны», «киношны». Они вызывают в зрительном зале, скорее, смех, чем жалость: офицер в «Броненосце», скинутый в море матросней, летит с палубы как кукла; вместо судового врача, вздернутого на рею, висит его разбитое пенсне и т. д.
Между тем в жизни к началу работы Эйзенштейна над юбилейным революционным киноэпосом уже давно расстреляна была царская семья, девушки-княжны и малолетний мальчик-цесаревич, был убит Николай Гумилев, в подвалах ЧК и в темницах тюрем томились невинные. Но классовая (или, точнее, идеологическая) позиция эйзенштейновских фильмов в 1920-е годы однозначна, тверда и тенденциозна. Он – трубач революции! Он – советский кинематографист № 1!
Экскурс I
Тройка классиков Эпопея в версии Вс. Пудовкина