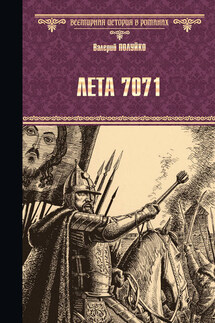Лета 7071 - страница 85
– Не чист я, отче…
– Истинно, сын мой… Наиблаг токмо един Бог. Помолимся, сын мой, во имя его, да спасет он нас.
Монах принялся усердно молиться. Челяднин тоже прочел молитву… От скопившейся в храме тишины позванивало в ушах – это отвлекало Челяднина. Молитва его получилась нестройной, с пропусками. Он укорил в душе сам себя, сосредоточенно, слово в слово повторил молитву.
Монах словно забыл о нем. Челяднину хотелось попрощаться с ним, но отрывать его второй раз от молитвы он не решился. Тихо отступил, последний раз посмотрел в глаза Спаса – они истово, как благословением, осенили его спокойствием.
Время клонилось к полудню. Оттепель расквасила дорогу, и лошади шли тяжело, то и дело сбиваясь на шаг, а Челяднин все торопил, торопил своего возницу.
– Да уж не даю им, борзым, передыху, – оговаривался по-доброму возница.
– Погоняй, погоняй!
– Эка докука! Верст-то десять, не боле…
Возница вез боярина от самых Великих Лук и давно приноровился к его покладистости. Мог и поворчать, и посамовольствовать – все сходило ему с рук. Даже советы решался давать, которые Челяднин, так же как и его ворчание, принимал со спокойным молчанием.
– В деревеньку бы звернуть – поснедать?
– Погоняй! Не помрешь за десять верст.
– А деревенька-то ладная! Видать, дворовая[61]. Наши, великолуцкие, тожа кадась ладными были… Нынеча совсем зануждались. По дву раза на году походы, и все через Луки. Последний хрен без соли доедаем!
Челяднин не слушал возницу; закутавшись в шубы, полулежал на войлочном приспинье саней – напрягшийся, зоркий, нетерпеливый…
По дороге тянулись обозы – в Москву, из Москвы… Возница не пропускал ни одного встречного.
– Эй, московиты! – кричал он задорно. – Почто Москву отодвинули? Еду-еду – не доеду!
– К доброму гостю Москва навстречу катится, а от худого – пятится! – отвечали обозники.
Челяднин вздрагивал от громких выкриков возницы, отрывался от своих мыслей, начинал смотреть на дорогу, на заснеженные поля, гладкие, как натянутый холст… На их вылощенной глади лежал слабый отблеск тускло проглядывающего сквозь облака невысокого солнца. Иногда свет его прорывался сквозь тусклую завесу, освещал далекий окоем, и становилось видно, как с неба, будто с горы, скатываются за его пологий край тяжелые глыбы облаков.
Дышалось легко: оттепельный воздух был жесток, но свеж и как будто слегка хмельноват. Челяднин смаковал каждый вдох. Приятная истома отяжеляла все тело. Не хотелось поднимать даже век, но мысли работали напряженно: думал о царе, о его неожиданной перемене к нему, думал о Курбском, о его отчаянье и страхах перед царем, думал о князе Владимире, о его матери – княгине Ефросинье, с которой свиделся в Старице, заехав туда по просьбе князя. С княгиней он проговорил чуть ли не всю ночь. Раньше ему никогда не доводилось говорить с Ефросиньей, и видел-то он ее мельком всего несколько раз: за мужем, князем Андреем Старицким, жила незаметно, а после смерти его, когда вышла из темницы, вовсе затворилась в Старице, не выезжая даже на богомолье.
Последний раз он видел ее лет пятнадцать назад, на царской свадьбе. Тогда она всех привела в ужас, явившись на свадьбу с распущенными волосами. Все знали, что после гибели мужа Ефросинья дала обет до конца своей жизни быть в волосах[62], и все восприняли это не только как горькую странность ее души, но и как тайный вызов царскому дому, бунт против которого и привел к гибели князя Андрея. Однако никто не думал и не ожидал, что Ефросинья посмеет и в открытую так дерзко повести себя.