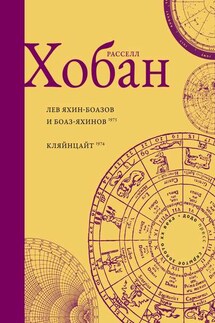Лев Боаз-Яхинов и Яхин-Боазов. Кляйнцайт - страница 31
Сейчас он утомился, а сумерки казались более одиноким временем, нежели ночь. Вечно дорога, говорили сумерки. Вечно угасает день. От вида движущихся по вечерней дороге фар под еще светлым небом у Боаз-Яхина теснило в горле. Он помнил, как раньше был дом, где он спал каждую ночь, – а еще отец с матерью.
Неровно тарахтя, рядом притормозил и остановился старый мятый фургон, от которого несло топливом и фермой. За рулем сидел молодой мужчина с грубым небритым лицом, щурился.
Он высунулся из окна, оглядел чехол от гитары, БоазЯхина, кашлянул.
– Какие-нибудь старые песни знаешь? – осведомился он.
– Какие именно? – спросил Боаз-Яхин.
– «Колодец»? – сказал фермер. Промычал мотив мимо нот. – Там еще о девчонке – она ждет своего ухажера у колодца, а тот все не идет. Старухи на площади ее спрашивают, сколько раз удастся ей наполнить кувшин. А девчонка смеется и говорит, что не наполнится он до той поры, покуда не увидит она улыбку милого…
– Я ее знаю, – сказал Боаз-Яхин. Он спел фермеру припев:
– Точно, – сказал фермер. – А «Апельсиновую рощу»?
– Да, – ответил Боаз-Яхин. – Ее тоже.
– Ты куда едешь? – спросил фермер.
– В порт.
– До него тебе еще день, если не больше. Хочешь денег заработать? А потом я тебя туда подброшу.
– А что надо делать? – спросил Боаз-Яхин.
– Поиграешь для моего отца, – объяснил фермер. – Споешь ему. Кончается он. – Он открыл дверцу, БоазЯхин сел, и фургон тронулся. – Его трактором переехало, разворотило всего, – сказал фермер. – Остановился на уклоне, забыл воткнуть ручник и зашел проверить зацеп у бороны. А трактор возьми да покатись на него. Всего подавил. Колесо прямо по нему проехало, половину ребер переломало, легкое разорвано. Он долго пролежал с внутренним кровотечением, пока не сообразили его поискать… Сам виноват, черт его подери. Никогда уже не задумывался о том, что творит. Ну да ладно. В общем, так оно все и вышло. Пускай послушает песни, что Бенджамин певал, а потом помрет, и все закончится… Сейчас-то он говорить не может, понимаешь. Лежит, тужится изо всех сил, лишь бы вздохнуть. Правая рука вообще не шевелится. А левой рукой, одним пальцем, пишет на тумбочке имя – Бенджамин. А Бенджамина-то я предъявить ему не могу. Вот и решил, пусть хоть песни послушает. Может, разницы и не почует. Сукин сын. – И он заплакал.
Мой второй плачущий водитель, подумал Боаз-Яхин.
– А Бенджамин – это кто? – спросил он.
– Мой брат, – ответил фермер. – Десять лет назад ушел из дома. Ему было шестнадцать тогда. С тех пор ни слуху ни духу.
Он свернул на ухабистую грунтовку. Фары глядели на камни и грязь, в открытые окна врывался стрекот сверчков. Дорогу усеивали коровьи лепехи, по обеим сторонам расстилались пастбища, пахло скотом. Жидкую травку, бледную в свете фар, будто неохотно вытягивали из земли стебелек за стебельком.
Тряска не прекратилась, пока впереди не показались освещенные окна, пока фургон не въехал в раскрытые ворота и не остановился подле сарая, крытого гофрированным железом. Позади сарая стоял хлев, сбоку – дом. Дом был угловатый и неприглядный, сложен из цементных блоков, с черепичной крышей. В дверном проеме стояла женщина, против света чернела ее грузная фигура.
– Жив еще? – спросил фермер.