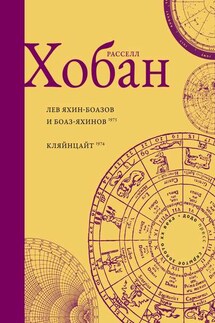Лев Боаз-Яхинов и Яхин-Боазов. Кляйнцайт - страница 32
– Конечно, жив, – ответила женщина. – Он уж не первый год помирает. С чего б ему сейчас-то поспешать лишь оттого, что его переехало каким-то трактором? А это кто? По-твоему, сейчас время таскать дружков на ужин или ты решил открыть молодежную гостиницу?
– Я подумал, недурно было б музыки отцу послушать, – произнес фермер.
– Ишь ты, – сказала мать. – От такого-то всем веселей станет. Да у нас нервы того и гляди полопаются, пока твой отец помирает. Тебе с такими задумками надо бы где-нибудь на курорте работать, в гостинице. Светским распорядителем.
– Тебе полегчает, если мы так и проторчим тут всю ночь, или нам все-таки можно войти? – спросил фермер.
– Заходите, добро пожаловать, развлекайтесь, устраивайтесь поудобнее, – сказала мать. Отлепилась от дверного косяка и направилась в кухню.
– Я так думаю, наш гость не откажется чего-нибудь съесть, – сказал фермер вслед своей матери.
– Что угодно, – ответила та. – Круглые сутки. Угождать вам – моя высшая радость.
Фермер и Боаз-Яхин уселись в гостиной, украшенной плохонькими картинками на стенах, миской с фруктами на буфете, коротковолновым радиоприемником, несколькими книжками да безвкусными вазами. Пробелы между вещами в комнате разделяли их, а не связывали.
– Может, пойдем глянем, как он там? – предложил фермер. – Коль помер, так есть ли прок ему петь. – Он встал, повел наверх. Боаз-Яхин с гитарой шел следом, глядя в спину, обтянутую истрепанной рубахой со всохшим в нее потом, на тяжелые широкие штаны, из одного кармана у них торчал ржавый болт, а из другого моток проволоки.
– Даже если умер, может, ему славно было бы песенку сыграть, – произнес Боаз-Яхин. – Если никто не против.
Наверху отец лежал на прочной темной кровати, а вокруг него стояла комната. Стояли стулья, стояли обои, стояли окна в стене, а за окнами стояла ночь.
У кровати высился хромированный шест с поперечиной, а у той на крюке висела пластмассовая бутыль, пластиковая трубка кормила собой большую вену в отцовой руке.
Белые бинты обматывали ему грудь и правое плечо. Кожа у него на шее и груди, необычайно открытая рас-пахом ворота, вся была сморщена, и темна, и обветрена. В других местах кожа была белой и неопытной с виду. Глаз он не открывал, голова на подушке откинута, борода торчала с подбородка пушкой. Дыхание у него свистело внутрь и наружу, трепетало, ломалось, длилось неровно.
Запястье, окрашенное, как и шея у него, выходило из тонкой белой руки, представлялось запястьем мальчишки. Ну их, эти годы, говорило запястье. Вот так я лежало на покрывале, когда кто-то другой был мужчиной, а я – мальчишкой. Тогда в моей руке ничего не было, нет ничего в ней и теперь.
В кресле у кровати сидел врач. Он был в темном костюме и сандалиях, надетых на темные носки, поглядывал на часы, поглядывал на отцово лицо.
– Больница-то в двадцати милях отсюда, – пояснил фермер Боаз-Яхину. – Неотложку вызвали, сюда не могла добраться много часов. Доктор вот приехал, сделал все, что мог, посоветовал сейчас его не ворочать.
Фермер взглянул на врача, показал на Боаз-Яхинову гитару.
Врач взглянул на отцово лицо, кивнул.
Мать внесла кофе, фрукты и сыр, пока Боаз-Яхин настраивал гитару. Кофе она налила врачу, своему сыну и Боаз-Яхину, потом уселась на стул с прямой спинкой и сложила руки на коленях.
Боаз-Яхин заиграл и запел «Колодец»: