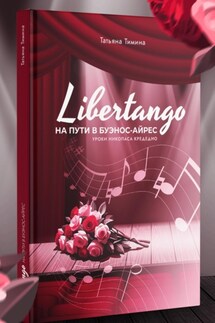LIBERTANGO. На пути в Буэнос-Айрес - страница 9
– А как ты видишь Пульезе?
– Освальдо Пульезе в Аргентине считают практически святым. Его танго – это глубокая трагедия, это всегда расставания, глубокие переживания. Возможно, потому что он был коммунистом и, поскольку в Аргентине идеи коммунизма были весьма непопулярны, он много лет провёл в тюрьме.
– То есть твоим другом он бы не был?
– Конечно нет, он стоит на слишком высоком пьедестале.
– А Карлос ди Сарли?
– Его называют Сеньор Танго. Ди Сарли – это аристократизм, роскошный салон, изысканность. Вокруг него много мистики, которую добавляли его неизменные чёрные очки. В этом его привлекательность, и в этом его отдалённость, закрытость. С трудом могу представить, чтобы я подошёл к нему на милонге и поздоровался за руку, если бы он был жив. Его образ, его музыка напоминают мне дорогое шампанское.
– А Хуан Д’Арьенцо?
– Это «Король ритма». Если у Пульезе, Тройло, Ди Сарли танго в основном мелодичное, часто медленное, то Хуан Д’Арьенцо – это всегда чёткое, ритмичное танго. Танцевать под его оркестр я очень люблю, и все мои ученики через какое-то время говорят, что благодаря нашим занятиям они полюбили ритмичное танго. Он мне близок по темпераменту, но весьма далёк своим весьма неуживчивым характером: он постоянно со всеми ссорился и расставался. Как видишь, у каждого руководителя оркестра свой характер, свой стиль, поэтому и танцевать их музыку нам нужно по-разному. А сейчас мы начнём с медленного танго Карлоса ди Сарли.
Рассказывая об оркестрах, Нико словно задавал контекст, перенося нас из мира обыденности в Аргентину, в мир красоты и гармонии, настоящего танго. Он словно давал мне понять: душа танго – в том, что мы выражаем, а не в том, как мы двигаемся. Он говорил, что танго – это не заученные шаги, а целая философия, которую каждый оркестр раскрывает в своей неповторимой манере. В этом заключалась первая особенность наших уроков.
Второй особенностью было то, что мы начинали урок с традиционного танго. Он пользовался им, как настройщик камертоном для настройки инструментов. Что бы я в дальнейшем ни просила отработать – милонгу, вальс, нуэво —первым танцем на наших уроках неизменно было «простое танго», как мы в шутку назвали его на первом занятии.
Но это было ещё впереди, а сейчас он стоял передо мной, протягивая руку. Я коснулась его руки, отвечая, осторожно, почти неуверенно, и между нами возникло то, что нельзя увидеть, но можно почувствовать – тонкая нить доверия. И я впервые не поняла, а именно почувствовала, что танго танцуют не руками, не ногами, а сердцем, которое слышит биение другого сердца. В этом объятии заключалась вся сложность человеческих отношений: близость, которая требует границ, и свобода, которая возможна только в доверии.
Мы станцевали два классических танго, затем Нико предложил исправить пару ошибок, допущенных в танце, показав, что для устойчивости нужно лишь чуть по-другому встать. Он вообще ценит «мелочи», вызывающие большие изменения. И мы продолжили работать над самым важным, по его мнению, —над взаимодействием в танце.
В середине занятия образовалась минутная пауза, и Нико сказал по-русски:
– Я схожу за водой для нас, – эта короткая фраза, которая стала для меня традицией и третьей особенностью преподавания Нико, и которую он будет говорить в середине каждого урока, напомнила любимую книгу Богомила Райнова «Черные лебеди»: