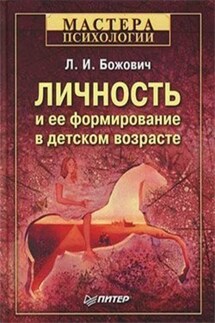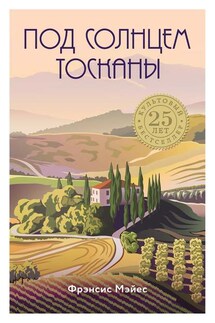Личность и ее формирование в детском возрасте - страница 49
У всякого непредвзятого ученого указанные выше факты должны были бы породить сомнение в первоначальной концепции происхождения, содержания и функции бессознательного и толкнуть на новые научные гипотезы: действительно ли главным содержанием бессознательного являются инстинктивные влечения? Действительно ли оно заполнено мыслями и побуждениями, вытесненными или не допущенными в сознание в силу их аморального характера? Действительно ли «цензура» подавляет лишь то, что несовместимо с нравственными требованиями людей? А может быть, нравственные мотивы поведения в силу их решающего значения для человека как общественного существа усваиваются им настолько непосредственно и органично, что приобретают видимость инстинктивных побуждений, независимых или даже противостоящих сознанию? В этом случае, для того чтобы объяснить их силу и автономность, вовсе нет необходимости представлять их как модификацию биологических влечений. Напротив, возникает задача раскрыть механизм их образования, то есть показать, при каких обстоятельствах и в какой структуре поведения и деятельности человека они им усваиваются, не будучи осознанными, или как они приобретают неосознанный характер.
Возникает также предположение, что, может быть, не допускаются в сознание любые, вступившие в конфликт между собой аффективные тенденции, если этот конфликт мучительно переживается человеком.
Ведь нам хорошо известны случаи, когда человек в силу каких-либо обстоятельств или соображений решается на преступление, но не может его осуществить в силу непосредственного внутреннего сопротивления, основанного на глубоко и органично усвоенном им нравственном принципе.[33]
Анализ сознательных аморальных и неосознанных моральных стремлений в художественной форме дает Ф. М. Достоевский в «Преступлении и наказании», и многие современные писатели, которые изображают некоторых нацистов, оказавшихся не в силах вынести свое же собственное зверство, совершаемое во имя фашистских идеалов. Наконец, может быть, область бессознательных психических процессов и переживаний гораздо шире и многослойнее, чем это представлялось З. Фрейду, а та сфера бессознательного, которую нащупал З. Фрейд, пользуясь психоаналитическим методом, составляет лишь его незначительную часть, не имеющую существенного значения для нормального человеческого поведения? В этом случае надо было бы найти какие-то другие механизмы и закономерности для объяснения происхождения бессознательных психических процессов, раскрыть иное их содержание и иную их функцию.
Однако все эти вопросы в корне подрывают основные устои фрейдовского учения, и он их даже не ставит. Столкнувшись с фактами, противоречащими его взглядам, З. Фрейд пошел не по линии пересмотра своего учения, а по линии его приспособления к этим фактам.
При этом он делал допущения, совершенно не опирающиеся даже на психоаналитически добытые факты. Так, например, ему пришлось допустить, что полным комплексом Эдипа обладают не только невротики, но и все люди вообще. Для этого допущения З. Фрейд не имел никаких фактических оснований, но он был вынужден его сделать, так как в противном случае выдвигаемая им концепция происхождения бессознательных моральных стремлений и чувств (которыми обладают в той или иной степени все люди) не могла быть построена, а следовательно, не могла быть спасена и вся его психоаналитическая система.