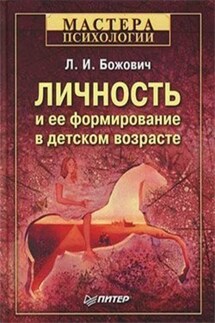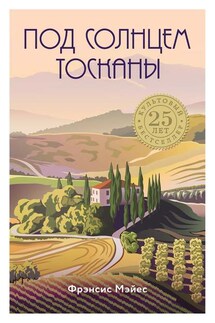Личность и ее формирование в детском возрасте - страница 50
Не касался Фрейд и таких вопросов, как, например, вопроса о времени наиболее интенсивного формирования в человеке его духовных идеалов. Ведь если идеальное Я представляет собой реактивное образование на влечение «эдипова комплекса», то почему же оно развивается и формируется главным образом в юношеские, а иногда даже и в зрелые годы, а не в раннем детстве, как это было бы можно ожидать с точки зрения выдвигаемого З. Фрейдом объяснения? Он совсем обошел молчанием и тот факт, что бессознательными могут быть и весьма рациональные и продуктивные процессы мышления. Таким образом, центральное звено психоанализа – учение о бессознательном – оказалось беззащитным перед лицом фактов.
Но З. Фрейд не захотел и не смог отказаться от своей идеи о происхождении бессознательного, его функции и роли в жизни человека. Он понимал, что с крушением этой идеи наступит крушение и всей психоаналитической концепции личности и всего фрейдизма как социально-философского учения.
Вернемся теперь к анализу методов психоаналитического исследования личности и степени научной достоверности тех фактов, на основе которых выводы, сделанные в отношении невротиков, переносятся З. Фрейдом на нормальных, здоровых людей.
Нам кажется, что не будет ошибочным утверждение, что никаких твердых научных оснований он для этого не имел; «перенос» сделан им совершенно необоснованно. Однако сам З. Фрейд убежден, что все его выводы строятся на прочном фактическом основании: Во-первых, на основании толкования сновидений, Во-вторых, на анализе ошибочных действий людей – оговорок, описок, утери вещей, спотыканий и т. д.
Остановимся на первом методе, составляющем как бы фундамент психоаналитического исследования.
Допустим, что мы даже признаем правомерной и убедительной технику толкования сновидений, и вслед за З. Фрейдом придем к выводу, что у человека во время сна при резко сниженной деятельности коры действительно высвобождаются и начинают действовать какие-то примитивные потребности и стремления.
Но, спрашивается, разве этот факт дает право на утверждение, что поведение и деятельность нормального, здорового человека в бодрственном состоянии управляется теми же примитивными потребностями и стремлениями? Что именно они представляют глубокую, истинную сущность человека? Такой вывод неправомерен прежде всего с логической точки зрения, так как здесь имеется замкнутый круг: надо доказать, что сознательные процессы не являются определяющими в жизни и деятельности человека, что на самом деле здесь царствуют процессы бессознательные, инстинктивные, а для доказательства люди берутся в том состоянии, когда у них выключены именно эти сознательные процессы.
Но еще более неправомерным этот вывод является с фактической стороны.
Приведя результаты анализа тех немногих сновидений нормальных людей, которые З. Фрейду удалось сделать, он замечает, что сами лица, видевшие сон, «решительным образом неполным правом (разрядка наша. – Л. Б.) отвергают желания, которые мы им приписываем на основании нашего толкования» [188, с. 150]. Один из них, возражая З. Фрейду, говорил:
«Основываясь на сновидении, вы хотите доказать, что мне жаль денег, потраченных мной на приданое сестры и воспитание брата? Этого быть не может; я только на них и работаю, у меня нет в жизни никаких других интересов». А одна из женщин, сон которой также был подвергнут толкованию, с возмущением воскликнула: «Я, по-вашему, желаю смерти моему мужу?! Ведь это возмутительная нелепость! Вы мне, пожалуй, не поверите, если я стану вас уверять, что у нас самый счастливый брак. Но это еще не все; ведь согласитесь, что его смерть лишила бы меня всего, что у меня есть в жизни». Иначе говоря, З. Фрейд сам утверждает, что лица, которым он, основываясь на анализе их сновидений, пытался приписать определенные бессознательные желания, «…утверждают нечто прямо противоположное тому желанию, которое мы у них открыли, и