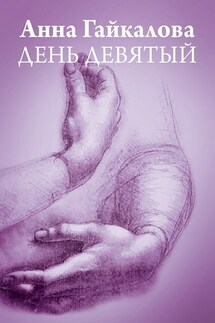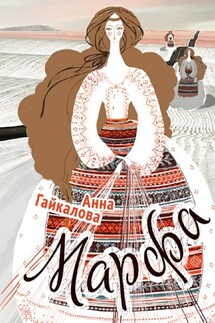Марфа - страница 20
Смотрю, небо туманится, ветер подул, пригнул тонкие стволы, растревожил старые деревья, пронесся шумом и скрежетом. Звезд не стало вмиг, вроде был вечер, а сразу ночь.
Нужно, думаю, узнать, чем эта история кончилась.
– Так что было-то?
– Вроде Старец себе гроб заказал, а гробовщику велел больше не запасать, колотить только по вызову. Ну а тот, говорят, не послушался, стал опять молотком стучать. Оступился однажды, когда гроб сбивал, да в него и упал. Ушибся, говорили, не смог выбраться. А тут и ливни пошли, вода поднялась, все как раз по домам попрятались. И поплыл гробовщик в своем новом гробу. Говорят, так и сгинул он.
Это что за история, думаю. И спрашиваю:
– Как в деревне считают, за что?
– Чтоб не наводил на людей мысли смертные без намеренья.
– Но ведь говорят, что надо помнить о смерти и жить со страхом.
– С божьим страхом, а не с тоской грядущей земли. Если каждый день новый гроб встречать, поневоле примеришься. Так вроде этот страх неправильный.
– А святые старцы в гробах спали и ничего. Что неправильного?
– Простые люди святым не чета. Слабы и боязливы. От них того усердия и не требуется. Что святому благодать, простой враз на грех перевернет.
– А где стоял дом гробовщика?
– На том месте, где дом к забору плывет. Говорили ему: «Не бери того куска».
– Ну, если так, дом спустился бы и с горочки.
– Старец он не любил карать. Только если напросишься. Если б его гробовщик послушался, то везде бы дожди выпали, а его бы надела не тронули.
Сказала так и пошла себе.
Стою, гадаю. Может, правильно. Не кличь беду, не пугай народ без толку.
Утром небо ясное, ни облачка. Думаем, можно позагорать или хоть подышать телом. Но нет, часу не прошло, набежали тучи.
В доме не стало теплей, решаем рискнуть и опробовать печь: может, все же жива?
Печь после долгого перерыва – дело мужское. Только вот кочерга ушла, была-была, а хватились – нет.
– Да она у мангала!
Печка стонет, тяжело дышит, еле жива. Разбудили старую, не дадут помереть. То и дело открывается дверца топки, непривычные к огню и дыму в доме собачка и кот боязливо топчутся у двери. Впрочем, собачку утешают, тут же берут на руки, но она и там дрожит.
Неужели мы сможем согреться? И смеемся, ежимся.
– Эх, хорошо бы борща с утра. И хлеба с салом. Вот тепло внутри и продержалось бы.
– Доели борщ.
Старые, полупустые дрова летят в кирпичную утробу. Ни запаха, ни треска. Ни срока. Молодое дерево, умирая, куражится и бравирует: что для юности смерть? А старое все трагично, оно обращается в прах тихо, ничего не дает, кроме шепота старых дум да скудного тепла.
Окна дома закрыты, припоздавшее солнце наконец прорвалось, размахалось лучами на тучи, и те расползлись, зависли над мощной рекой. Порыкивают, но ни с места.
Если будет жара, все равно хорошо: дом подсохнет.
Трясогузки носятся в траве, если и поднимаются, то только до крыши. А ласточки высоко – зря обещали дождь.
Отчего-то сохнет красавица-береза. Что с тобой, спрашиваю ее. Говорит: «Зря вы тут выкопали колодец, отняли от корней воду».
Разве люди сделали бы многое, если б заранее знали?
Выхожу из дома и окликаю:
– Дочь!
Обернулись четыре. Все смеются. Пора готовить обед, мужчины на улице чинят крышу. Конек покосился, тянут из сарая большую стремянку. Такую длинную вытянули, а хвост все внутри.
Молодые женщины в доме, смотрю на мужчин. Старший внизу отдает команды, кто помладше, поднялся наверх. Качается непомерной длины стремянка, друг за другом по ней вверх крадутся.