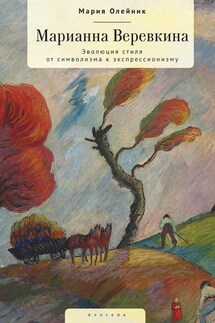Марианна Верёвкина. Эволюция стиля от символизма к экспрессионизму - страница 11
М.В. Веревкина в своей мастерской в Петропавловской крепости, подобно светским львицам XIX в., собирала близких по духу ей людей. Она блистала отличным знанием иностранных языков и, не стесняя себя в средствах, выписывала издания по искусству, просвещала своих гостей, рассказывая о новых именах в изобразительном искусстве – Э. Мане, К. Моне, О. Ренуаре, Э. Дега, Дж. Эббе, М. Уистлере. М.В. Добужинский вспоминал: «У нее в П[етербурге], в Петропавловской крепости (где отец ее был комендантом) был «центр» общения <…> художников (в числе которых был и И.Э. Грабарь): там получались заграничные журналы, велись общие беседы»73. Этот круг М.В. Добужинский противопоставлял существовавшему в это же время кругу А.Н. Бенуа: «…другой, обособленный от этого круг, группировавшийся около Александра Бенуа, – Сомов, Философов, Нувель, Бакст и позднее примкнувший к ним Дягилев»74.
В Мюнхене художник открыла салон, традиционный для русского богемного общества. По свидетельствам современников, М.В. Веревкина являлась своеобразным источником энергии и силы, воздействие которых на себе ощущали сами очевидцы. Историк Г. Пауль вспоминал позже: «Я никогда не чувствовал такого напряжения. Центром, источником этого энергетического поля, которое ощущалось почти физически, была баронесса (данное суждение ошибочно, М.В. Веревкина не имела титула баронессы) – грациозная женщина с черными глазами, полными яркими губами, с поврежденной во время охоты рукой <…> Она доминировала над всеми»75.
В «русском уголке»76 собирались представители аристократии, художники, поэты, артисты балета: барон Зедделер, И.Э. Грабарь, Д.Д. и Д.В. Бурлюки, Ф. и М. Марк, Х. Макке, Э. Нольде, А.П. Павлова, С.П. Дягилев, В.Ф. Нижинский, П. Клее, В.В. Кандинский. Жизнь в Мюнхене была относительно недорогой, позже И.Э. Грабарь вспоминал: «Марианна Владимировна привезла с собой кухарку Пашу <…> Мы ежедневно бывали у них, наслаждаясь всякими кулебяками, блинами, гречневой кашей и упивались чаем»77. На Гизелаштрассе, по воспоминаниям современников, самовар не остывал «день и ночь»78.
Первоначально «уголок» был создан для адаптации в Германии русских художников, сталкивавшихся с трудностями понимания немецкого менталитета: «Они даже смеются по команде»79. Со временем мюнхенский круг расширялся, друзья начали приводить своих подруг и других друзей – это могли быть и студенты, и русские князья, для которых обратный путь в Россию был закрыт. Занятно, что имя М.В. Веревкиной ни разу не упоминается в мемуарах К.С. Петрова-Водкина и до сих пор не найдено писем с упоминанием имени светской львицы. Но именно в «русском уголке» К.С. Петрову-Водкину оказывают теплый прием, вот что пишет матери К.С. Петров-Водкин из Мюнхена 20 мая 1901 года: «…и тут я был спасен; услышал и русский язык и удивительный прием. Меня, как родного, здесь приняли: накормили, напоили и спать положили. Я сразу попал в кружок русских художников и ученых, какие они славные, милые, здесь же встретил из нашей школы двух девушек и сейчас пишу от них, дожидаюсь. С завтра начну рисовать в здешней школе. Пробуду здесь не меньше месяца, как-то они устроят мои денежные дела, все равно погибнуть не дадут. Да, под счастливой звездой я родился. Сегодня перейду в квартиру одного художника и поселюсь у него»80
Основание для утверждения, что К.С. Петров-Водкин остановился именно у М.В. Веревкиной, можно найти в мемуарах художника: «Мои мытарства закончились стрельбищным полем. Прямо с него я попал в русскую семью за самовар. Встречен я был как курьез. Целый вечер рассказывал о моих приключениях разнородному обществу соотечественников. Материально на первое время я был выручен дружной подпиской»