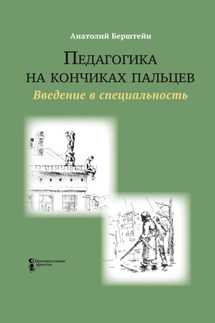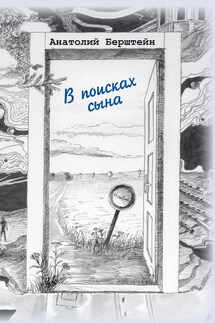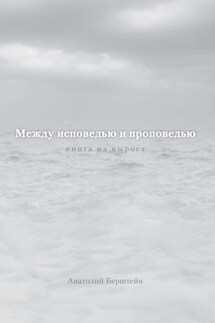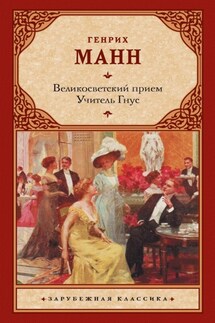Между исповедью и проповедью. Книга на вырост - страница 2
К примеру, возьмём всё тот же сакраментальный вопрос – меняется ли человек? Сформулируем его в этот раз по-другому: а сам-то я изменился? Мне всегда легче рассказать и показать на себе – «на манекене».
Да, я менялся, выдавливая из себя сначала труса, потом учителя; учился любить, не обижаться по пустякам, быть терпимее, доверять, не делать из мухи слона; не обманываться на свой счёт, не зацикливаться на себе, уметь говорить «нет», держать удар. Всё до сих пор в процессе.
Но, кажется, мне всегда было понятно, кем я не хочу быть. Кем быть – всегда есть варианты. Важнее понять – кем не стать. Попытка совмещать несовместимое – самое болезненное состояние.
Я всегда боялся тюрьмы. Сумы нет, если только иногда в последнее время. А тюрьмы боялся. И ещё давно, в самом начале 70-х, понял – не готов к профессиональному диссидентству, не пойду в тюрьму, займусь «малыми делами». (Потом расскажу историю, после которой я определился). Что совсем не мешало оставаться инакомыслящим. Точнее, мыслящим свободно. Поступающим далеко не всегда.
Я боялся тюрьмы, потому что думал, что не смогу выдержать унижения. Помню, читая «В круге первом» об аресте дипломата Иннокентия Володина, сильнейшим образом переживал, когда, будучи арестованным, он сразу лишился респектабельного «Вы» и вынужден был стоять голым перед тюремщиками. Самая сильная и страшная сцена из «Утомлённых солнцем», когда охранники избивают в машине легендарного комдива Котова, и после крупным планом показывается жалобная улыбка раздавленного человека.
Да, слава Богу я этого не испытывал. Я об этом только читал и смотрел. И я ни капельки не жалею, что не имел такого опыта. Да что там тюремного, я ощущал дефицит даже житейского опыта. (Честно говоря, остерегаюсь людей с «большим житейским опытом»). И здесь на помощь мне приходили книги. Какую роль в моей жизни сыграли книги? Огромную. Мы познаём мир непосредственно и опосредованно через культуру. Кожно и книжно. Бывают перекосы. Возможно, у меня в сторону книг. Но они не то чтобы заменили мне реальную жизнь, но раздвинули горизонты. Я всё-таки пытался «их жить».
Хватало ли мне общения? И да, и нет. С одной стороны, у меня очень широкий круг друзей и знакомых. И я лично был и сейчас знаком с многими известными людьми. Но чаще шапочно. И мне, зачастую, не хватало длительных бесед. Хотелось молчать и слушать, а не выслушивать и отвечать. Хотя я был и у Окуджавы в Москве, и у Копелева в Кёльне, и у Рабина в Париже.
Но я же не был их собеседником в полном смысле слова, а учителем, приглашавшим выступить у себя в школе, журналистом, берущим интервью, или заодно с другом, позвавшим меня с собой в гости.
Мне, любознательному экстраверту, нравились любые формы социального общения: в поезде, в соцсетях. Признаюсь, я любил писать заочные письма. Не выдуманным, а вполне реальным адресатам. Но не Лотману или Эйдельману, а другим популярным людям, кто попал в беду, и кого мне хотелось в тот момент поддержать или предупредить, дать совет.
Я писал почти с уверенностью, что отправлю письма. Но почти никогда не отправлял.
Почему? Потому что было неловко. И оставалась рубрика – «что бы я сказал, если бы…».
Странное, взаимоисключающее желание: беседовать с незнакомыми и непохожими людьми, притягивающими именно своей инаковостью, с другой – искать свой круг, свой карасс, своё «закулисье». Контрастный душ – говорят, полезен. И всё-таки предпочитаю тёплый – свой.