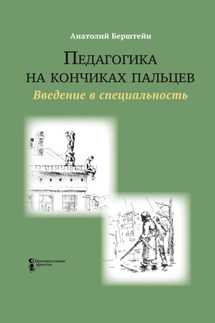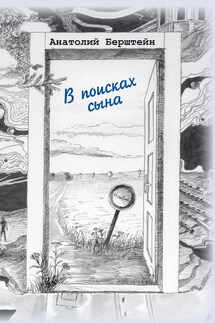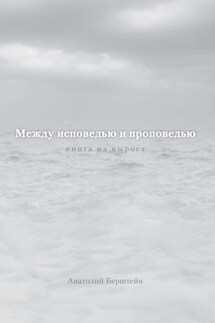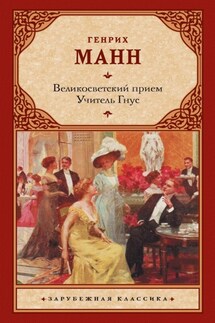Между исповедью и проповедью. Книга на вырост - страница 3
…Меня спрашивали: если бы была возможность прожить ещё раз, многое бы изменилось в моей жизни? Многое. Главное – мне не хватало умения и мужества любить. Сейчас у меня есть внук – любимый человек. Сам не ожидал от себя такого. Он скрасил моё одиночество, наполнил жизнь смыслом, сделал её временами радостной. А сколько я всего пропустил… Но лучше поздно, чем никогда, правда? Собственно, для внука, в основном, я всё это и пишу. Так сказать, на вырост.
Преимущества слабости
Как-то давно мне принесли книгу со словами: «Вам будет интересно». «Герберт Уэллс? – с удивлением и несколько недоверчиво прочитал я на обложке. – „Негасимый огонь“. Никогда не слышал. Это фантастика?» «Да, нет… Это совсем не фантастика. В, общем, прочтите». «Ладно, прочту», – пообещал я. И прочёл.
Книжка оказалась действительно замечательная. Сюжет прост. На директора известной и респектабельной школы вдруг обрушилась череда бед: сначала несчастный случай с учениками, потом известие, что сын убит на фронте (шла Первая мировая война), в конце концов, сам он заболевает раком. Попечительский совет, пытаясь его заменить, предлагает кандидатуру антипода. И директор восстаёт против него. В итоге он побеждает: и рак, и остаётся директором, и сын оказывается жив – в плену.
Много в этом романе меня тронуло, многое заставило задуматься, но, может быть, самое сильное чувство возникло в тот момент, когда директор получает письмо солидарности и поддержки от бывших учеников с фронта.
Я получал много писем от детей: особенно много из армии, и с объяснениями в любви, и с благодарностью, и с претензией, и с поздравлениями, вопросами, просто так. Но вот, когда мне было худо, и меня тоже отстранили от школы, писем в защиту от бывших учеников не последовало. (Заступились и поддержали только старые друзья). Очень давно это было. Но я хорошо помню, что было обидно. Казалось, мои ученики уже достаточно взрослые, чтобы понять – я нуждаюсь в их поддержке. Потом, спустя годы, выяснилось – не понимали. Почему? Я казался им тогда исполином, который со всем сам справится, им даже в голову не приходило, что МНЕ нужна помощь. Мне, ещё совсем молодому человеку.
И вот не сразу, но постепенно я начал понимать: с учениками, со своими детьми, с людьми вообще надо быть слабыми. (Конечно, за исключением тех случаев, когда придётся дать решительный отпор). Не надо делать из себя волшебника-небожителя или закованного в латы рыцаря. Можно остаться на коне, но при этом потерять к себе человеческое отношение.
Философия трудных времён
Стремление снизу вверх неистощимо. О каких бы основаниях ни размышляли философы и психологи – о самосохранении, принципе удовольствия, уравнивании – всё это не более, чем отдалённые репрезентации великого движения ввысь.
Альфред Адлер
Направление взгляда – вверх
Мой бывший ученик почти никогда не смотрел по сторонам или наверх, только вперёд или себе под ноги. Даже когда мы ездили на экскурсии, гуляли по городу, он что-то слушал, но не смотрел. И мне казалось, что и не очень слушал. Я как-то обратил его внимание на это.
Символичным образом такая особенность совпадала со спецификой его характера и жизненным кредо – он был (и есть) человек практический, коммерческий, исповедующий философию сермяжной правды. В какой-то момент жизни, когда мы тесно общались, он попал в орбиту моего влияния и вынужден был довольно много читать, особенно немецких писателей: Ремарка, Бёлля, Фриша, Томаса Манна. Потом мы разошлись, точнее, он повзрослел и стал на свою стезю, а она шла несколько параллельно с моей. Круг его чтения резко поменялся: теперь он читал книги только об успешных людях – биографии и автобиографии. Его интересовала анатомия успеха. И он его добился.