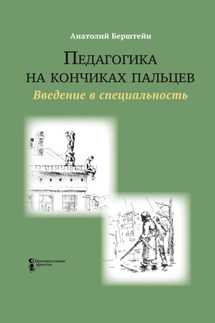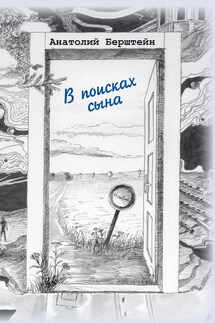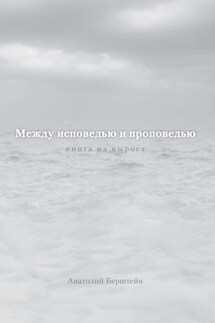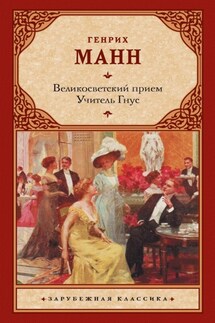Между исповедью и проповедью. Книга на вырост - страница 6
Особенно трудно определить нормальность в культуре. «Ненормальное искусство» со временем становилось классикой. Всё самое выдающееся придумали, скорее всего, не самые нормальные люди на земле. Зато нормальные лучше всего могут всем этим пользоваться, хотя создавать у них получается намного хуже.
Другое дело, чтобы как-то упорядочить жизнь, люди придумывают правила общежития, традиции, общие моральные критерии. И нормой становится то, что принято в тех сообществах, в которых ты находишься. В обыденной жизни, на войне или в тюрьме нормативы различны.
Итак, норма социальна и субъективна – порой это создаёт проблему. Особенно, когда нормы пытаются навязать: что большинство меньшинству, что меньшинство большинству, начальник своим подчинённым и так далее.
Можно ли при этом сохранить свои, личные нормы и следовать им, невзирая на общепринятые? «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», – писал Ленин. А он не всегда был не прав. Тем не менее, внутри себя мы всё равно имеем личную нормативную шкалу, которая равнозначна ценностной. Если мы теряем эту «двусмысленность человеческого существования», то теряем часть нормальности – социальную или персональную. Никакой идеал не может стать нормой. Это как в СССР: был план – 100 процентов, его, случалось, перевыполняли, и тогда уже рекордные, к примеру, 110 процентов становились нормой. (К слову: поэтому план старались выполнять, но не перевыполнять.)
«Норма в идеале» – это всегда претензия на перевыполнение плана, постоянная жизнь на цыпочках.
У каждого свой «чердак» и свой «подвал». В смысле, свои плановые нормативы – высшие и низшие. У меня пониженная температура тела – для меня это норма. У кого-то пониженное давление – здоровое, нормальное состояние, а если повысится до общепризнанной нормы – криз. «Нормально» всегда по вкусу – соль, перец и так далее. Кому война, кому мать родна. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Кому-то жизнь в определённых безнравственных, антиэстетических обстоятельствах невыносима, другим, как сегодня принято говорить – «норм».
Обыкновенный человек для нового порядка
Монолог члена Партии Среднего человека: «Люди созданы, чтобы жить вместе, чтобы обделывать друг с другом дела, беседовать, петь вместе песни, встречаться в клубах и в лавках, на перекрёстках, – а по воскресеньям – в церквях и на стадионах, – а не сидеть в одиночку и думать опасные мысли».
Владимир Набоков. «Под знаком незаконорождённых»
Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый стремится его использовать.
Артур Шопенгауэр
Когда внук был подростком, на очередной мой монолог, что надо стремиться стать лучшей версией себя, он ответил: «Я же обыкновенный мальчик». О, всю его последующую жизнь я ему этого «обыкновенного мальчика» припоминаю. Притом, что уже тогда он вряд ли хотел быть обыкновенным, но боялся сознаться в своих амбициях – вдруг что не получится, вдруг поймут не так. Его амбиции росли прямо пропорционально его неуверенности.
Кто такой обыкновенный человек? Это не «простой, мирный, скромный обыватель», не тот, кого Бог обделил какими-то необычными способностями, не тот, кто остановился где-то на полпути по карьерной лестнице, а кто больше боится, что его заметят, чем, наоборот, не заметят. (Хотя, часто бывает, как сказал уже взрослый внук, «человек прячется, чтобы его нашли»).