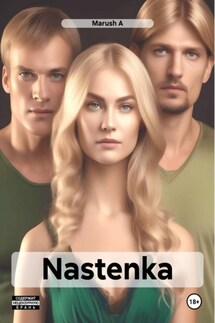Между строк и лжи. Книга II - страница 4
Вивиан кивнула, невольно коснувшись шеи под высоким воротником платья.
– Покажите, – коротко приказала Мадлен.
Вивиан колебалась, но во взгляде Мадам Роусон была такая спокойная уверенность, что она подчинилась. Дрожащими пальцами она расстегнула несколько верхних пуговичек на воротнике и слегка оттянула ткань. Мадлен наклонилась ближе, внимательно разглядывая багровые, уродливые следы. На ее лице не отразилось ни ужаса, ни брезгливости – лишь мрачная сосредоточенность.
– Да, – проговорила она глухо. – Рука была сильной. И намерения – самыми серьезными. Вам действительно повезло, что кто-то оказался рядом в нужный момент. Кто бы он ни был.
Она снова откинулась в кресле.
– Что ж, мисс Харпер, ясно одно: вам нельзя возвращаться домой. По крайней мере, сегодня. И в вашу редакцию тоже лучше пока не соваться. Вы останетесь здесь. У меня есть свободная комната, тихая и незаметная. Здесь вас искать не станут. Мои стены, – она обвела взглядом свой кабинет, – умеют хранить секреты получше, чем церковная исповедальня. Отдохнете, придете в себя. А утром решим, что делать дальше.
Она встала, давая понять, что разговор на сегодня окончен. Ее движения были плавными и полными достоинства, несмотря на домашний наряд.
– Я прикажу приготовить вам комнату и принести горячей воды. И постарайтесь поспать, дитя мое. Хотя бы немного. Завтра будет новый день. И новые проблемы, – добавила она с кривой усмешкой, но в глазах ее Вивиан неожиданно увидела тень искреннего, почти материнского сочувствия.
ГЛАВА 2
Когда Вивиан открыла глаза, первые мгновения она не могла понять, где находится. Тяжелые портьеры из терракотового – или как называли этот цвет «индийский красный» – бархата плотно закрывали окна, погружая комнату в густой, непривычный полумрак, сквозь который лишь тонкими золотыми иглами пробивались редкие лучи запоздалого рассвета. Воздух был неподвижным, теплым и густо пропитанным незнакомым, сложным ароматом – смесью дорогих духов с восточными нотами, воска от догоревших накануне свечей и чего-то еще, неуловимо-сладковатого, возможно, запаха пудры или цветочных эссенций, которыми здесь, казалось, пропитано было все, от шелковых обоев на стенах до мягкого ворса ковра под ногами.
Она лежала на огромной кровати под пышным балдахином из того же коричневато-красного бархата, утопая в непривычно мягких подушках и ощущая под щекой прохладную гладкость тончайшего шелкового белья – роскошь, разительно контрастировавшая со скромной обстановкой ее собственной спальни на Маунт-Вернон-стрит или спартанской простотой гостевой комнаты в пансионе миссис О’Мэлли.
Затем воспоминания о прошлой ночи – страшные, обрывочные, как мутные картины дурного сна, – обрушились на нее с новой силой. Темный, зловонный тупик, ледяной ужас, безжалостные пальцы на горле, хриплый голос, шепчущий угрозы, блеск стали, оглушающий выстрел… Она резко села на кровати, чувствуя, как закружилась голова, а тело отозвалось тупой, ноющей болью. На прикроватной тумбочке из темного полированного дерева лежало небольшое ручное зеркальце в тускло поблескивающей серебряной оправе, оставленное здесь, вероятно, для удобства постоялиц. Движимая скорее болезненным любопытством, чем тщеславием, Вивиан дрожащей рукой взяла его. Холодное стекло отразило скудный утренний свет, пробивавшийся сквозь щели в тяжелых портьерах. С замиранием сердца она поднесла зеркало к лицу, а затем медленно опустила его ниже, к шее. Зрелище оказалось даже хуже, чем она ожидала. Щека, куда пришелся сокрушительный удар кулаком, безобразно распухла, кожа натянулась и горела огнем, отливая нездоровым багровым пятном, которое к вечеру, без сомнения, превратится в лиловый синяк. Но страшнее всего была шея. К темным отметинам от первого нападения добавились новые – широкие, темные, почти чернильные кровоподтеки там, где ее вчера сжимали безжалостные пальцы, прерывая дыхание. Кожа была воспалена, и даже легкое прикосновение кружевного ворота одолженной ночной рубашки вызывало острую боль. Это были не просто синяки – это была безобразная, унизительная печать жестокости, клеймо, оставленное на ее теле теми, кто хотел ее сломить, заставить замолчать. Она смотрела на свое отражение – на бледное лицо с распухшей щекой, на изуродованную шею, на темные круги под покрасневшими глазами – и чувствовала себя разбитой, униженной, но главное – загнанной в угол. Мысль о тетушке Агате снова сковала сердце холодом. Угроза была реальной, и отступать ей было нельзя. Но и двигаться вперед казалось почти самоубийством.