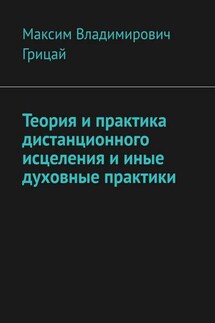Межкультурная коммуникация в условиях глобализации. 2-е издание. Учебное пособие - страница 14
Всестороннее осмысление описанных явлений началось в Европе довольно давно. Уже Ф. Ницше понимает современность как процесс кризиса традиционной евроцентричной культуры, основанной на идеях классической метафизики (прежде всего на идее Логоса). Вторым по значимости предтечей «философии постмодернизма» называют Д. Джойса. В числе своих предшественников постмодернисты видят и М. Хайдеггера, автора идеи постметафизического мышления. Как самостоятельное явление философия постмодернизма возникает в 40-х гг. ХХ в. во Франции, достигая своего расцвета в 70–90-е гг. и распространяя свое влияние на другие страны и континенты. Среди важнейших ее представителей здесь уместно назвать такие имена, как Жак Деррида, Мишель Фуко, Жан-Франсуа Лиотар, Жак Лакан, Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Жан Бодрийар, Умберто Эко, Ричард Рорти, Эммануэль Левинас, Джамбатиста Ваттимо и др.
Это интересно
Постмодернизм не столько эпоха в развитии социальной реальности, сколько в сознании. (З. Бауман)
Так, в работе Ж. Лиотара «Постмодернистское состояние: доклад о знании» (Lacondition postmoderne. Rapports urlesavior, 1979) выделен ряд особенностей, свойственных постмодернизму как общей характеристике современной культуры. Дополнив их некоторыми терминологическими разъяснениями, заимствованными в основном из работы «Постмодернизм. Энциклопедия»>1, попытаемся дать, насколько это возможно для принципиально всесистемной философии, некоторое ее системное осмысление.
Первое. Ценностная основа постмодернистского состояния общества – онтологизация языковых игр (понятие сформулировано поздним Л. Витгенштейном). Языковая игра – модулятор реальности. С точки зрения «послесовременной» философии, речь и событие взаимно обратимы. Стоит заметить, что в деятельности современных средств массовой коммуникации (СМК) нередко встречаются пугающие своей очевидностью подтверждения данного подхода (например, известная история о фильме, моделировавшем события последней войны в Югославии).
Игра, в общем-то, лишена иного смысла, чем участие в ней. По сути, это чистый коммуникативный акт. Но для того, чтобы полноценно принять участие в игре, необходимо, по мысли постмодернистов, отказаться от сложившихся стереотипов мышления (крах «фалло-лого-евроцентризма и бинаризма; новое понимание пространства как открытой «номадности» – степи, в отличие от поля традиционной культуры; отказ от «вертикальной» метафоры корня в пользу «неориентированной» метафоры корневища-луковицы – ризомы, переход от метанарраций к малым нарративами т. д.). Ценности, условно выступающие таковыми по ходу решения игроком временных ситуативных задач, – иронизм, плюрализм, фрагментарность, ориентация на телесность и т. д.
С точки зрения Лиотара, игра также выступает как свобода. Свобода трактуется при этом как «уход от жесткой легитимации», приравненной к опоре на метанаррацию («метарассказ», «сверхрассказ», «большая история» – синонимы особой роли в культуре ее матрицы – религиозного мифа, кодифицированного в каком-либо сакральном тексте). Метанаррация «претендует на универсальность в культуре» и вытесняет все прочие способы объяснения и поведения (дискурсивные практики) на «еретическую периферию». Игровое отношение, напротив, постулирует равноправность всех практик, всех картин мира. Таким образом, эпоха постмодернизма может также быть названа эпохой заката метанарраций и утверждения плюрализма ценностно равноправных «малых историй» (нарративов). Нарративность, по сути, совпадает с утверждением «презумпции уникальности каждого события» (номинализация культуры). Интересно, что подобная модель рассуждения оказалась созвучной научной методологии современного гуманитарного знания, прежде всего исторического и социологического.