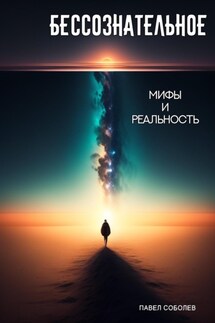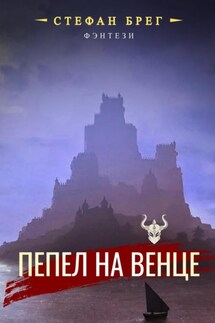Миф моногамии, семьи и мужчины: как рождалось мужское господство - страница 23
Известны такие акты дарения в обмен на содержание, когда отец, "не слишком доверяя детям, предпочитал оформить подобные отношения юридически", и в Италии X века (Абрамсон, 1996, с. 116), и во Франции XVI века (Уваров, 1996, с. 269), где из 87 актов дарения детям адресованы аж 39 (остальные акты адресованы к знакомым, дальним родственникам или даже к церкви). Забавно, но исследователи отмечают, что в большинстве актов присутствует формулировка "по доброй любви и склонности", а иногда любовь и вовсе объявляется «пылкой» – и это притом, что такие вставки фигурируют даже в тех случаях, когда известно о вражде (к примеру, о судебных тяжбах) между участниками дарения (там же, с. 272). То есть такие выражения нежности в документах, похоже, являются всего-навсего общепринятым обращением, формальностью, "хорошим тоном" эпохи, за которым реального эмоционального содержания не стояло.
Немецкий социолог XIX в. Вильгельм Генрих Риль писал по этому поводу: "крестьянин далёк от всей современной сентиментальности и от романтических эмоций. Семья священна для крестьянина, но чувствительная любовь родителей, братьев и сестёр, а также супругов, которая принята среди образованных людей, не будет обнаружена в крестьянской среде. Это хорошо установленное утверждение, и я опасаюсь, что в сельской местности неуважение взрослых детей к престарелым родителям совершенно обычно, особенно когда пожилые родители передают всю собственность детям, которые, в свою очередь, обязаны оказывать им поддержку, т. е. их кормить и заботиться о них до самой их смерти. Чем оборачивалась эта поддержка, видно из крестьянской поговорки: "лучше не снимай с себя одежды перед тем, как лечь спать" (цит. по Шлюмбом, 2003, с. 633).
С начала XX в. в некоторых районах Европы родители вовсе перестали передавать хозяйство детям, а вместо этого стали банально им же продавать. Вырученные деньги они клали на счёт в банке и в своё удовольствие жили дальше на проценты (Зидер, 1997, с. 70). Иногда хозяйство детям даже не продавали, а сдавали в аренду, и на ренту старики перебирались в город. И только введение государственных пенсий в XX веке как-то меняет ситуацию и снижает степень напряжённости между стариками и их взрослыми детьми.
Таким образом, можно видеть, что не только две тысячи лет назад, но и гораздо позже, ближе к современности, совместная жизнь отцов и детей совсем не была идиллической: родительская жестокость к детям была скорее нормой, и реакция выросших детей была, вероятно, аналогичной. Но, как увидим дальше, ситуация эта не сильно изменилась и по сей день, несмотря на всю декларативную позицию современного "детоцентризма". Наверное, единственная причина, почему сейчас мы можем говорить, что между выросшими детьми и их стариками не происходит больших трений, – это мода на неолокальность, распространившаяся в XX веке тенденция отселяться из родительского дома по достижении совершеннолетия; редко какой ребёнок имеет с родителями настолько хорошие отношения, что может оставаться с ними дольше.