Михаил Горбачев: «Главное – начать» - страница 2
Свою книгу Горбачев диктовал стенографистке Ирине Вагиной, а затем вносил правку от руки
2011
[Архив Горбачев-Фонда]
Поздний СССР занимал передовые позиции в космосе и удерживал паритет с США в области ядерного оружия, были здесь и высокие достижения в области литературы и искусства, но что касается гуманитарного знания, это была выжженная земля – если не считать отдельных исключений, к числу которых, кстати, принадлежали однокурсники Раисы Горбачевой – Мераб Мамардашвили и Юрий Левада. Поэтому, не соглашаясь в оценке Горбачева, например, с идеологом перестройки Александром Яковлевым, знавшим его очень близко, я, разумеется, не считаю себя умнее и проницательней него. Мы просто испытаем здесь иной подход: займемся тем, что называется концептуализацией – поиском смыслов в том, что уже «дано».
Человек, обладающий чувством истории и своего места в ней – а к таким людям в высшей степени принадлежал Горбачев – старается найти в ней (или придать ей) какой-то смысл. Мы можем восхищаться мужеством Альбера Камю, который последовательно утверждал, что человеческая жизнь, а следовательно, и история – это абсурд, но человеку рефлексирующему жить внутри бессмысленной истории совершенно невыносимо.
Warning!.
Историк Рейнхард Козеллек, с которым мы ближе познакомимся в главе 2, где его судьба, возможно, на миг пересечется с судьбой Горбачева, издал многотомную энциклопедию исторических понятий, в которых историки разных государств и эпох осмысливали историческую материю, и результат получался всякий раз другой. Оптика понятий, или «концептов», меняет и то, что мы видим: замечаем или проходим мимо. Без обновления инструментов невозможно рассмотреть новое, которое чаще всего вроде бы то же самое, но увиденное по-другому (а мы, напоминаю, «пришли в лес» последними!).
Но некоторые концепты, которые мы будем использовать как инструменты понимания, сами по себе для понимания довольно сложны. Работая над этой книжкой, советуясь с читателями ее рабочих вариантов, мы вместе думали, что с этим делать – но так ничего и не придумали. Была мысль выделять труднопроходимые места другим шрифтом, чтобы тот, кому интересней факты, а не их интерпретация, могли эту заумь просто пролистывать. Но факты и смыслы, если они извлекаются, всегда переплетены, они так не «экстрагируются».
Но возможно, мы и преувеличиваем эти сложности. Читатели, которым я адресую эту книжку, уже проходили в институтах, а может, и в школе то, что под покровом упрощенного и тем еще более дремучего «марксизма-ленинизма» прятали от нас. Зато мы много читали – у нас еще не было Ютуба. Будем исходить из того, что человек, который в наше время социальных сетей, стримов и коротких роликов взял в руки книжку, готов к определенным усилиям. Старая дедовская книжка ведь хороша тем, что в ней какие-то места можно прочитать дважды или трижды, можно отложить ее и подумать, сделать на полях пометку, чтобы потом вернуться. Именно так читали и думали Горбачев и другие персонажи этой книжки, и в этом тоже есть свои прелесть и преимущества.
Единственное, что я постарался сделать – разбросал «заумь», перемежая ею биографические факты и рассказы о советском житье-бытье, более или менее равномерно по разным главам, чтобы сразу вас всем не грузить. Я также составил и поместил в конце словарик тех терминов, может быть, для кого-то новых, которые будут выделены по тексту вот так:


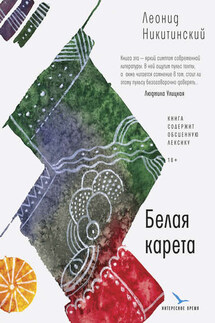
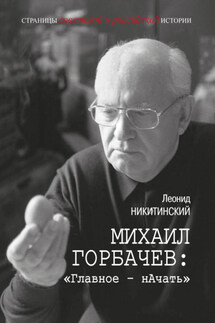

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)


