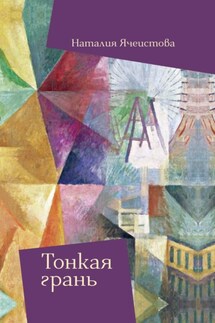Москва моего детства - страница 4
Дмитровские дворы
Много тайн хранил в себе дом тёти Лизы. Спустя много лет узнала я и про несчастного Евстафия, которого никто из нашей семьи в живых не застал. Он был мужем Татьяны, и они жили вместе с тётей Лизой – до того дня, когда его арестовали в 1933 году (в возрасте тридцати трёх лет) и отправили на Соловки. На этот адрес приходили его письма из лагеря. В одном из них он писал своему брату Михаилу: «У меня к тебе будет просьба, т. к. ты имеешь фотоаппарат, то сними, пожалуйста, Татьяну в её комнате. Я тебя прошу сделать это. Заранее приношу благодарность». В другом письме он пишет: «А главное, что меня пугает, – это сам факт моего существования…» Евстафий был расстрелян в 1937 году на Соловках, в 1958-м – реабилитирован. В октябре 2020 года на стене этого дома по адресу Большой Казённый переулок, дом 10 была установлена мемориальная табличка в память о Евстафии в рамках гражданской инициативы «Последний адрес[13]».
Дом № 3 по Дмитровскому переулку
Район Петровки остался в моей памяти как старинная часть Москвы, полная тайн и загадок. Много лет спустя я как-то собралась взглянуть на место своей первой колыбели в Дмитровском переулке. «Почему много лет спустя?» – спросите вы, ведь я как жила, так и живу в Москве. О, это необъяснимое чувство боязни встречи со своим прошлым! Почему-то, часто бывая в районе Петровки, я лишь издали бросала взгляд в сторону родного места. Что-то удерживало меня от того, чтобы войти во двор, подойти к своему дому. И вот теперь, при ближайшем рассмотрении, Дмитровский переулок было не узнать. Исчезла арка, которая вела во двор, да и самого дома, в котором была эта арка, уже не стало. Теперь двор, отгороженный от проезжей части лишь металлической изгородью, оголился, расширился. Во дворе сохранились два старых двухэтажных дома – наш[14] и соседский. Оба дома, судя по всему, были недавно капитально отреставрированы; чистенькие, с белыми фигурными наличниками на окнах, они выглядели вполне симпатично. Судя по вывескам, здесь теперь располагались отель и кафе. Рядом вырос жилой дом в стиле неоконструктивизма. Переулок стал совсем иным, но, к счастью, не подвергся радикальной перестройке, сохранил, как и соседний Столешников, свою малоэтажность и сдержанную выразительность.
Я стояла и смотрела на свой дом, окна, безлюдный двор, и трудно было представить, что именно здесь когда-то жили мои родители, протекало моё детство. Подойдя к дому вплотную, я всматривалась в него: камни, щели, перекрытия, металлические конструкции – сохранило ли хоть что-то память о том времени? Трудно сказать. Но мне показалось, что за новым модным фасадом дома бьётся всё то же старое доброе сердце, помнящее всех своих жильцов. И чем дальше я уходила от Дмитровского переулка, тем острее становилось это чувство.
Шаболовка
Как я уже говорила, родители часто отвозили меня на Шаболовку, где я проводила много времени у своих любимых дедушки и бабушки – Ивана Ивановича и Валентины Петровны Катяевых. Всё доставляло мне здесь радость, таило в себе много интересного и занимательного. Бабушка и дедушка жили весьма просто, но они казались мне красивой необычной парой. Как сейчас помню: коренастая фигура деда, его живое улыбчивое лицо; бабушка – строгая, с правильными чертами лица – тонким носом и выразительными серыми глазами. Бабушка носила прямые штапельные платья, не имела дорогих украшений, не пользовалась косметикой; мне запомнились только её духи «Красная Москва» – маленький флакончик в красной коробочке. Мой дед никогда не казался мне «дедом»: был он до самой своей кончины (ушёл, не дожив полугода до семидесяти лет) энергичным, весёлым и «заводным», как говорила бабушка. Он носил костюмы (летом – непременно светлые, песочная гамма преобладала), рубашки с запонками, галстуки, шёлковые кашне, шляпы; выглядел весьма импозантно. Бабушка и дед всегда пребывали в хорошем настроении. «Живём как у Христа за пазухой», – говорила бабушка, и я представляла себе Христа, как мы сидим у Него за пазухой и выглядываем оттуда – довольные и счастливые.