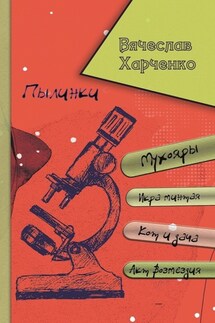Москвич в Южном городе - страница 25
– Мне жаль осликов, – сказал я.
Надежда засмеялась, спортивно подняла рюкзак с водой, весело и бодро полезла ко входу в крепость-музей.
– Ты лучше себя пожалей, – крикнула она мне через плечо.
Я смотрел Надежде в спину и думал: «Вот пройду я эти сто пятьдесят метров с уклоном в семьдесят градусов, вот дойду до лестницы, вот суну голову в окошечко кассы, а мне оттуда миловидная шокающая девочка – вход пять тысяч рублей. Ого, подумаю я. Пять тысяч рублей. Да у меня нет таких денег, это невозможно, я лез полдня на гору, а тут вход пять тысяч рублей, это невозможно, это ужас, это смерть и полная потеря естества».
Пока я так размышлял, я добрался до входа в Чуфут-Кале. К счастью, вход был почти бесплатен. Если честно, то Чуфут-Кале напомнил мне израильскую крепость Моссаду, такую же гордую, высокую и трагическую. Ее защитники зарезали себя, не желая попасть в плен к римлянам. Жители Чуфут-Кале просто покинули крепость в XIX веке.
Там были мавзолей, молельный дом, пещеры. Караимы выдолбили глубокие пещеры, Надежда сказала, что в принципе, долбить известняк несложно. Достаточно добиться резкого перепада температуры – развести костер и залить водой.
Но самое главное не в этом. Самое главное – вид вокруг. Ты стоишь на краю обрыва, а перед тобой бесконечная зеленая долина, уходящая вдаль и сливающаяся с голубым сияющим небом. Над долиной нависают горы, странные и непонятные для северного московского человека, но обычные и нормальные для человека южного. «Место силы, – подумал я, – место силы», – хотя никогда в эту ерунду не верил.
Потом мы спускались. Хотели успеть до темноты. Зашли на караимское кладбище. Надгробия и надписи на диалекте иврита. Восемьсот лет истории покинутого города.
Теодор Рузвельтович и щенок Багратион
Моя странная особенность состоит в том, что я не люблю собак. Возможно, это связано с тем, что в детстве меня покусал дедовский кобель Мухтар. Хотя я сам виноват. Мы приезжали к деду каждые два года, и в тот год Мухтар был трехмесячным щенком.
Я шестилетний гонял его зачем-то ивовой хворостиной по всему двору. Он бедный не знал, куда от меня спрятаться. Дед и бабка были в заботах, все-таки двадцать соток огорода и сад, и машина, и мотоцикл, а мне казалось, что боль не имеет никакого значения. Дети вообще не понимают боли. Но Мухтар оказался с хорошей памятью. Когда через два года я к нему приехал снова, и мы остались один на один (родители сидели в доме, а дед и бабка копались на огороде), он меня цапнул от всей души. Его, конечно, потом выставили из дома, отправили, кажется, в милицейскую часть, но факт остается фактом.
Сегодня я заметил, как мой сосед, автослесарь Теодор Рузвельтович, что-то вынес во двор и положил почти к моему крыльцу. Я наклонился, это были куриные объедки.
– Теодор Рузвельтович, – спросил я, – что это такое?
Он немного опешил, побледнел, потом как-то смутился и произнес:
– Щенку это, Багратиону.
– Какому Багратиону?
– Ну Вадикову.
– О Теодор Рузвельтович! – воскликнул я, – похоже, вы считаете, что щенок Багратион не будет гадить на ваш огород?
– Мир дуален, – ответил автослесарь, – если я не люблю кошек и считаю, что они гадят, это еще не значит, что я не люблю собак и не отношусь спокойно к тому, что они гадят на мой огород.
Я закурил, задумался. Пошел спать.
Лида
По субботам я хожу в книжный магазин Игнатия и копаюсь во вновь поступивших книгах. Иногда мне кажется, что, беря с полки очередной том, я чувствую тепло людей, которые до этого владели этими книгами. Они ушли, эти люди, их нет, ушла их культура, их убеждения, их тела распались на мелкие атомы, их души, возможно, живы, а может, и нет, а судьба привела их к какому-нибудь тупику, потому что если не нужны их книги, их кумиры, их поэты, их философы, их знания, их опыт, то значит, и их жизнь прошла зря.