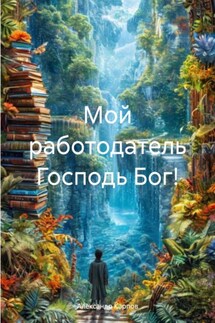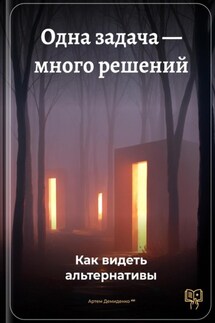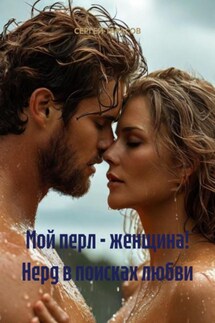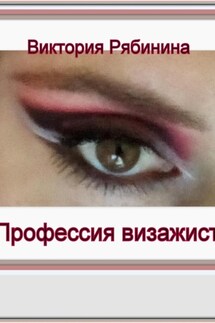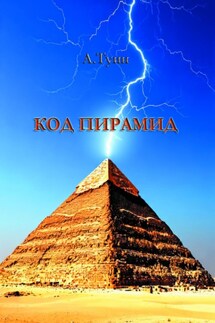Читать онлайн Александр Карпов - Мой работодатель Господь Бог!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В этой книге нет рецептов, как разбогатеть за неделю, как питаться мантрой, как создать шедевр или обрести «ресурсность». Это не марафон, не теория целеполагания, не учебник по монетизации чего бы то ни было. Здесь нет нумерологии, астрологии, гаданий, дрим бордов и прочей эзотерики. Мы не будем пускать шары желаний в небо и выбрасывать старые вещи, чтобы на их месте волшебным образом появились новые. Эта книга основана на науке, психологии и огромном опыте людей. Эта книга – мое исследование творческого начала в человеке и призыв для большой работы над собой. Нет никаких гарантий, что будет легко.
ВВЕДЕНИЕ
Я глубоко убежден, что творчество, если не единственное, то одно из самых важных начал в жизни каждого человека, ее движение, ее смысл. Творчество – это то, что объединяет нас с Богом, со вселенной, с космосом, с энергией, называйте как хотите, суть не изменится. Все мы подобны Творцу и творить, созидать для нас естественное желание, необходимая потребность, а избегать творчества – преступление не только против себя, но и против мира. Когда я говорю творчество или созидание, я имею в виду любое его проявление: от вышивания до создания художественных полотен, от воспитания детей до работы над собой, от уборки в комнате до передовых инженерных решений.
Самое мучительное состояние для меня – не творить, не созидать. В такие моменты, минуты, а иногда часы или дни, я ощущаю жуткую тоску, бессилие, а порой и отчаяние. Для меня это как разрыв связи с Богом, с миром, с окружающими меня людьми. Уверен, что каждый из вас хоть раз испытывал это чувство. Как будто знал что-то важное, но забыл и теперь мучительно пытаешься вспомнить. Каждый хоть раз чувствовал, что создан для большего, но не знал, не понимал, а может и не понимает сейчас, для чего именно. Иногда кажется, что мы родились не в то время, не в той семье, не в той стране. Иногда проблема в том, что мы думаем, что наше место на земле, но сколько бы не пытались себе это доказать – ничего не выходит: мы стремимся окружить себя приметами жизни, чтобы почувствовать почву под ногами, но на самом деле – бросаем якоря с которыми только тяжелее идти вперед. И тоску мы чувствуем еще острее. Все это симптомы нашей потребности воссоединения с Богом и потребности творить. И наоборот, когда мы созидаем, мы чувствуем, как в нас разгорается жизнь. Это сродни моменту, когда за окном свирепствует метель, а ты сидишь перед огнем в теплой комнате и чувствуешь себя в полной безопасности.
В своих уроках или статьях, или занятиях, опять же как хотите, я попытался сформулировать то, как можно осознанно пробудить в себе творческое начало, воспитать его, бережно поддерживать, открыться миру, приносить ему свои плоды и в конце концов почувствовать себя счастливым, перестать думать о себе, как о былинке в огромном мире, ощутить свою уникальность, полноценность и важность.
Шекспир сравнивал наш мир с театром и отвел всем нам роли актеров, я же призываю снять маски и сесть в партер, чтобы наслаждаться представлением. В этом смысле мне больше импонирует Пифагор, который тоже уподоблял мир, правда не театру, а Олимпийским играм. Он говорил, что в амфитеатр «приходят три сорта людей: самый низший продает что-то, на следующей ступени стоят атлеты, которые развлекают зрителей, но лучшие из людей приходят посмотреть зрелище». Я уверен, что роли люди выбирают себе сами, потому что в партере всегда есть свободные места и для торговцев и для атлетов. У каждого из нас есть кресло с номером и наша задача его найти. Вот этим мы и будем заниматься.
Мой подход кажется для меня простым и понятным, но на деле требует большого труда. Представьте себе великана в темной пещере. Вот включается фонарик и его луч освещает когтистую лапу или шипы на спине и вы уже представляете чудовище спрятанное за лучом фонаря. Вам кажется, что вы можете оценить его масштаб и силу и уже готовы бежать из пещеры прочь. Но что если включить еще один фонарь? А потом еще один и еще до тех пор, пока вы сможете разглядеть монстра в деталях. Что вы скажете тогда? Может, он окажется не таким уж страшным, как с самого начала? Может шипы нужны ему для того, чтобы отпугивать насекомых, а когти на лапах, чтобы лазать по деревьям? Точно так мы часто смотрим и оцениваем людей, мир вокруг и самих себя тоже. В своих суждениях, как правило, мы ограничиваемся одной стороной, одним лучом и редко включаем другие. Наша задача отказаться от категоричности мышления, постараться взглянуть на вещи объективно, со всех сторон. Наша задача узнать на что мы способны, не в смысле своих предельных возможностей, а в смысле возможностей вообще. Наша задача узнать как мы устроены, как мы работаем. Это понимание даст нам огромную силу.
«Мой работодатель Господь Бог» – эту фразу я позаимствовал у Джулии Кэмерон, писательницы и драматурга, поэта, экс-супруги Джеймса Кэмерона, а она в свою очередь позаимствовала ее у одного из обществ психологической поддержки. Эта фраза висит над рабочим столом Джулии. Мне кажется этот слоган абсолютно точно отражает то, с каким настроем мы должны браться за дело. Фраза решительно заявляет, что никто и ничто не может остановить нас на пути творчества, что созидание – наша обязанность, наш дар и единственно возможный процесс, процесс бесконечный, ведущий нас к самым вершинам, приближающий нас к Создателю.
«Замыслы приходят ко мне свыше, прямиком от Бога». – говорил Иоганн Брамс. «Сам я лишь инструмент, роль которого в том, чтобы перенести музыку на бумагу и передать публике». – писал Джакомо Пуччини. «Мы настолько пленены своим субъективным сознанием и поглощены его работой, что совсем забыли о давно известном факте: Господь говорит с нами преимущественно через сны и видения». – Карл Юнг. «Искусство – надежный способ познать и понять истину…» – Питер Роджерс (художник). Можно бесконечно приводить цитаты великих людей, включая ученых, биологов, математиков, инженеров о том, как они чувствуют связь с Богом. Отрицать существование Высшей Силы может только тот, кто никогда не отправлялся в путешествие, или лучше сказать паломничество к Творчеству. Каждый, кто хоть раз искренно открывался этому потоку может подтвердить, что чувствовал, как кто-то берет его за руку и ведет за собой, и дорога эта всегда всегда бывает спокойна и полна чудесных открытий.
И еще одно, перед тем как мы начнем.
Когда эта книга была почти закончена, со мной случилось нечто исключительное. Мне предложили снимать документальный сериал о том, как рождаются идеи у представителей разных творческих профессий. Именно так и звучал запрос. Просто поразительно! Казалось, будто Кто-то решил мне помочь и снабдить эту книгу реальными историями, а не просто теоретическими изысканиями. В течении шести месяцев я встречался с художниками, поэтами, дизайнерами, композиторами, хореографами и разговаривал с ними. Иногда мне казалось, что я злоупотребляю своим положением, разговаривая на темы, которые меня мучают, проверяя свои догадки и мысли, но в этом и был смысл, в этом и была идея проекта, которая удивительным образом совпадала с моими поисками. Это было для меня огромным счастьем! Мы выпустили 16 мини-фильмов, в каждом из которых было два героя. Я получил бесценный опыт и бесценный материал для этой книги. Так что я буду рассказывать истории героев своего сериала, истории тех, кто вступил на путь Творчества и продолжает следовать ему неизменно.
В каждой главе будут задания, так что приготовьтесь их добросовестно выполнять. Купите ручку и тетрадь, потому что мы будем писать рукой.
Пора творить!
ГЛАВА 1. КТО Я?
Несколько лет назад, один мой хороший друг подарил мне сертификат на обучение у Нила Ландау. Это был ускоренный курс того, что Нил преподает в Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса. Нил – сценарист и драматург, консультант крупнейших студий Голливуда и Европы. Курс назывался «Шоураннер сериала». Нас учили, как писать сериал и как делать его успешным. Первое, что сказал Нил, когда вышел на кафедру было: «Кто я?». И тут, пока он выдерживал паузу, я, как и остальные, а может быть только я один, подумал о том, что сейчас он будет презентовать себя, знаете, как делают все, кто выходит на кафедру, начинает вебинар или что-то в этом роде. Может быть он и паузу-то эту сделал, чтобы я (или все) так подумал. Но он не стал рассказывать о том, чего добился, какие у него регалии, не стал перечислять сериалы, которые сделал или хвалиться дружбой со звездами. Он стал рассказывать о своей семье, о том, как сильно травмировали его отношения с родителями и о том драматическом багаже, который он вынес из своего детства и юности. И я помню, как это меня ошарашило! То есть не его личная история, таких историй миллион, а то, почему он ее рассказал. Задачей Нила было дать понять всем нам, его ученикам, что наше творчество: темы на которые мы пишем или снимаем, рисуем картины, лепим из глины или воспитываем детей, все что мы делаем – все это горит на топливе нашего опыта, на том, кем мы являемся, что мы прошли. И это стало для меня точкой отсчета, поворотным моментом в моем творчестве. Я вспомнил историю про Габриэля Гарсиа Маркеса, который прочел что-то из Хемингуэя и воскликнул: «А что, так можно писать?» и уселся за «Полковнику никто не пишет». Примерно так же почувствовал себя и я. А что так можно? Не нужно ничего сочинять? Можно писать о том, что тебя волнует и тебе за это ничего не будет? Можно говорить на эти темы и не бояться обидеть кого-то? Можно рассказывать о том, что чувствуешь и не бояться растерять друзей и родных? Да, можно! Да, нужно!
Всю свою жизнь я прятал свое прошлое в себе, переваривал его, как стиральная машина с бесконечным циклом белье в барабане, и даже не подозревал, что именно оно, мое прошлое, может стать самым лучшим бэкграундом, самым главным источником вдохновения и творчества и самым богатым для него материалом. Ведь никто раньше мне об этом не говорил. Я понял, что мне не нужно ничего придумывать, все, что мне нужно, у меня есть. Хотя бы для начала. И эта мысль стала для меня прорывом и освобождением! Настоящим озарением! Но главное, эта мысль примирила меня с собой, я полюбил себя и свое прошлое несмотря на то, каким бы драматичным оно ни было.
У меня есть еще один пример того, как автобиография стала фундаментом целого цикла картин одной художницы. Более того, этот пример наглядно (а как еще, это же художественное творчество) показывает, как личные воспоминания переплавляются в образы понятные всем и становятся настоящим искусством. Несколько Московских и Европейских галерей сегодня хвастаются тем, что в их фонде есть работы Евгении Мельниковой. Евгения – современная художница, прошедшая долгий путь поиска себя. Как и многие художники, она получила академическое образование. Но проблема была в том (и это не только ее проблема, а большинства выпускников академических художественных вузов), что академическое образование хоть и дает весь набор навыков и инструментов, но так сильно запирает в рамках, что выпускники буквально задыхаются и не знают, где они все это могут применить, что им писать и о чем говорить в своих работах. Им словно говорят: теперь ты готов, делай что хочешь! Однако никто и не подозревает, что именно он хочет и как это вообще – хотеть. Их будто во всеоружии выставили за дверь, а за этой дверью мир, в котором не с кем воевать. Можно много спорить и говорить о современном искусстве, но главный его постулат – искусство должно быть высказыванием. Современное искусство – это всегда контекст и текст в этом контексте. Академизм оказался слишком оторван от современности. В программу обучения не входит даже Малевич. Вы получаете диплом и будто стоите посреди рейв-вечеринки в костюме 19-го века. Это еще в лучшем случае. Вот почему выпускники академических вузов чувствуют себя буквально не своей тарелке. Вообщем, Евгении пришлось закончить еще три или четыре курса, прежде чем понять, в каком мире она очутилась и что же ей рисовать. Что же она сделала? Она вернулась к себе, к своему прошлому и да – драматическому прошлому. Женя рано потеряла родителей, многих близких родственников, дом и сад в котором они жили вместе. И теперь, все эти люди, объекты и воспоминания стали материалом для ее картин. Темы ее разговора – смерть, цикличность природы, ее увядание. Во всем этом она ищет эстетику. Визуальные поиски ( например, мертвый кролик, сухая ветка, увядающий цветок, гнилые фрукты) превратились в искусство. Но в ее работах нет драматизации, ужаса, крови, нарочитой действительности. Увядание в ее работах превратилось в неподдельную красоту. При этом вся «натура» ее творчества не придумана, не взята из вне. Это воспоминания, это то, с чем она сталкивалась в детстве, то что она переживала в связи с этим. Родительский дом и сад были миром, который она исследовала, а теперь стали кладезью образов для ее картин: яблоки-падалицы, засохшие между окнами бабочки и жуки, кроты и мыши-полевки, увядающие клумбы цветов. Звучит это как предметная живопись, но это не так. Каждая картина Евгении – это целый мир. Конкретные предметы – превратились в образы, ее личные паттерны, в символы, из которых она выстраивает циклы своих работ. Она признается, что ранняя потеря родителей сделала ее взрослым ребенком, но чувство необходимости беззаботности, желание вернуться в счастливое детство, позволили ей создавать не мрачные, а сказочные миры на своих полотнах, которые к тому же понятны и доступны зрителю. Она разрешила себе делать то, что для нее действительно важно. И это принесло свои результаты.