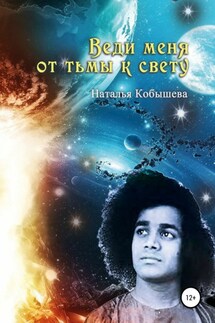Мы не должны были так жить! - страница 66
Раздача пищи происходила раз в день, к полудню, когда мы получали не только обед, но и весь суточный паек – хлеб, чай и сахар – причем в управлении воинского начальника. Оно находилось в другом конце города. Поэтому мы ежедневно шагали в своей неприспособленной к русской зиме одежде и обуви, в не очень стройном строю, через всю Самару.
Эти прогулки по Самаре были крайне интересны. Ведь тут встречались, и прямо на улицах, а не в зоопарке, верблюды, одно- и двугорбые. Раньше я всегда представлял их себе в зное Сахары, а здесь они важно вышагивали, покрытые инеем. И какие только этнографические типы ни встречались тут! Монгольские, монголоподобные азиатские лица и костюмы мужчин и женщин. Поражали громадные мохнатые шапки, широкие разноцветные кушаки, но в особенности войлочные валяные высокие до пояса сапоги – валенки, коричневые, черные, а иногда и белые с цветными узорами. Все это были жители Поволжья.
Уже начинался 1916 год, и кончалась зима, первая наша зима в России, последняя ли? Когда же кончится эта проклятая война, конца-края ей не видно, а с ней и наш плен, когда же мы вернемся домой? Да мы, собственно, даже не знаем, что творится там, на фронтах. Откуда нам знать? В лагере газет нет, а у нас ведь ни одной копейки, чтобы купить их. Лишь изредка мне удается, когда прохожу мимо киоска, прочитать одним глазом какой-нибудь крупный заголовок в русской газете, вроде: «Германский цеппелин бомбит Париж!», и сделать отсюда вывод, что немцам не удалось победить на Марне и взять французскую столицу. Таким путем мы получаем хотя бы какие-то отрывочные сведения.
Из лагеря в лагерь
С самарским лагерем я расстался без сожаления. Там я подружился лишь с одним человеком, вольноопределяющимся Бруно Цукерманом, родом из Хеба в западной Чехии, который, как и я, попал в транспорт. Значит, снова теплушка, снова путешествие в неизвестном направлении, возможно, на этот раз я все-таки попаду в Сибирь. Но нет, мы едем недолго, всего трое-четверо суток, и не на восток, а все на юг, и нас выгружают в Царицыне (город, который переименовали сначала в Сталинград, а потом в Волгоград). Здесь, по недоразумению, меня, как и всех вольно-определяющихся, помещают не в солдатский, а в офицерский лагерь.
Он тоже в школьном здании, расположенном на склоне над Волгой, которой, однако, от нас не видно. Господам офицерам в плену живется недурно. Они получают месячное жалованье, 50 рублей, сами столуются на эти деньги, им готовят собственные повара, обслуживают их денщики. Обстановка в лагере весьма приличная, – не нары, а топчаны, соломенные тюфяки и подушки, простыни и одеяла. Шведский Красный крест усердно заботится о пленных офицерах, посылает им белье, продовольствие, курево, книги. У них здесь имеется небольшая библиотека, – в большинстве немецкие, а также несколько русских, французских, английских романов, но и несколько научных книг, из которых одна математическая по абстрактной алгебре. Но есть и Библия – Ветхий и Новый завет – на древнееврейском, издание British Bible Society.
Пополнение нашей небольшой горсткой не причинило никаких неудобств обитателям лагеря. Им не пришлось ни потесниться, ни делиться с нами питанием. Тем не менее, они, за исключением немногих, встретили нас неприязненно, а то и прямо враждебно. С наибольшей спесью отнеслись к нам даже не кадровые и высшие офицеры, а лишь недавно вылупившиеся из таких же вольноопределяющихся как мы, кадеты. Всех шокировал, конечно, наш вид – мы были небритые, заросшие густой щетиной, нестриженые, в грязных, потерявших всякий вид, мундирах. Но и когда мы постриглись и побрились, и кое-как привели свою одежду в порядок, и когда выяснилось, что мы как-никак цивилизованные люди, кастовая преграда этим не устранилась.