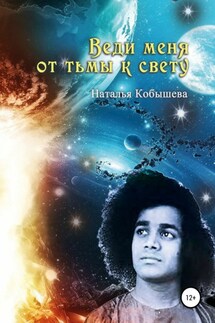Мы не должны были так жить! - страница 69
С этим же ратником я несколько раз побывал в городе, где было что посмотреть. Я уже не говорю про астраханский кремль и разные церкви – памятники старорусской и византийской архитектуры, – но весь облик этого портового города производил на меня крайне необычное впечатление.
Мне казалось, что одной ногой я уже нахожусь где-то в сказочной Персии. Один раз я увидел настоящее чудо – громадную рыбину, белугу, которую везли одну на телеге! «Мой» калмык как-то взял меня с собой в свою кумирню – стоящее на одной из окраин, среди других жалких калмыцких хибарок, глиняное строение в форме кибитки, в глубине которого находилась нескладная статуя сидящего Будды. Никаких служителей культа – не знаю, буддистского или ламаистского – здесь не было, в полумраке этого «храма» мы находились с божеством одни. Калмык вынул из глубокого кармана шинели бутылку крепкого, пьянящего кумыса, раскупорил ее и осторожно вылил несколько капель к ногам идола, бормоча при этом что-то вроде заклинания. А потом допил сам все, что оставалось в бутылке, блаженно причмокивая. Таким образом, я один раз в жизни присутствовал при обряде жертвоприношения.
Вот так я познакомился с калмыками, национальностью, которая, если верить 19 тому второго издания Большой Советской Энциклопедии, вообще никогда и не существовала. В БСЭ заглавное слово «КАЛМЫКИ» помещено лишь в дополнительном, 51 томе, вышедшем в 1958 году. По милости «отца родного», калмыков, как и крымских татар, немцев Поволжья, как ряд кавказских племен, а также и корейцев, не только изгнали из родных мест туда, где они страдали и гибли, женщины, старики и дети в том числе, всех поголовно, за действительные или мнимые грехи небольшой группы своих сородичей, но и вычеркнули их имя из истории и географии.
Завязать задушевные разговоры я неоднократно пытался и с русскими – астраханскими казаками. Почти все они, служившие караульными лагеря, были сынками зажиточных, «крепких» крестьян, сумев устроиться за взятки здесь в тылу, чтобы не попасть на фронт. И хотя они и не обращались с нами как-нибудь особенно грубо, в то же время они не были склонны к какому-либо панибратству. Все же мне удалось несколько раз побеседовать то с одним, то с другим, на так сильно интересовавшие меня темы о войне, о жизни, о смерти, о том, в чем, собственно, счастье человека.
Сюда, в астраханский лагерь, я стал, наконец, получать, довольно регулярно, весточки из дома. По этим открыткам я узнал, что мама, брат и сестра, а также бабушка живы и здоровы, что послали мне очередную посылку (которую я, однако, не получил), и только. Но как ни старались цензоры, вымарывая все остальное, они все же не догадались и пропустили одно сообщение, осветившее то, что там у нас делается. Оказывается, Рудольфа призвали в армию, значит, положение Австро-Венгрии незавидное, раз стали призывать восемнадцатилетних! При таком истощении людских резервов, война уже долго продолжаться не сможет. И, по-видимому, русские газеты, по меньшей мере в этом отношении, не врут, когда они описывают, как плохо там в Австрии и Германии с продовольствием, как там чуть ли не совсем перешли на «эрзацы», какие ничтожные пайки выдают по карточкам бедному населению, как это особенно гибельно отражается на питании русских пленных, которых, вдобавок, заставляют тяжело трудиться. Впрочем, это ухудшение положения центральных держав рикошетом отразилось и на нас здесь. Примерно со второй половины 1916 года нам сократили пайки, заметно понизилось и качество питания, постепенно стали гонять и на работу. Все это не было вызвано ухудшением экономического положения самой России, – в то время оно еще не давало себя знать заметно – а являлось ответной мерой за ухудшение обращения с русскими пленными. Играло роль и то, что повсюду все больше усиливались хищения, воровство, казнокрадство; нас, пленных, обирали все, начиная с каптенармуса, и кончая начальником лагеря, да, вероятно, и чинами повыше, в военном министерстве, наживавшимся на «экономии».