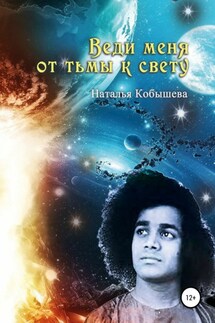Мы не должны были так жить! - страница 74
И тут я не выдержал. Я вырвался вперед, не обращая внимание на окрик караульных, вскочил на эту самодельную трибуну, и обратился к своим. Я сказал – по-немецки – что мы, военнопленные, должны взять пример с русских, и, вернувшись домой, поднять у себя революцию, и что мы уже сейчас, как это сделали русские солдаты, должны перестать рабски повиноваться своим офицерам. Я перевел эту краткую речь на свой корявый русский язык, закончил по-русски возгласом: «Да здравствует мировая революция!», и по-немецки, и по-мадьярски, «Es lebe die Wiltrevolution!», «Eljen a vilag forradalom!» и под оглушительные крики, в большинстве восторженные, – но были, конечно, и негодующие, – всей многотысячной толпы, заполнившей площадь, спрыгнул с трибуны и втиснулся обратно в наши ряды.
Возмездие не замедлило себя ждать. На следующий же день делегация пленных офицеров пришла из лагеря к прапорщику Рябцеву, начальнику лагеря, с просьбой наказать меня, изолировать за разлагающее политическое влияние. И в тот же день вечером, когда мы, как всегда, читали газету, появился этот начальник в сопровождении двух солдат и старшины и протиснувшись через тесный проход между нарами, подошел вплотную ко мне. «Встать!» – рявкнул прапорщик. Мы, конечно, все вскочили и стали навытяжку. «Давай сюда германскую газету! Откуда достал ее, шпион!» Я объяснил, что германской газеты у нас нет, что, вот, я просто читал «Русское слово», переводя на немецкий. Но прапорщик заревел: «Молчать!», с добавлением непечатной брани, и ударил меня своим большим кулаком – у него была волосатая медвежья рука, с большим перстнем, – я ее и сейчас вижу, – причем так сильно, что выбил мне сразу два передних зуба, шатких после цинги. Тут же два конвоира «нежно» подхватили меня и повели. При этом произошла маленькая задержка, даже в этих обстоятельствах – я плевался кровью – показавшаяся мне комичной. Когда мы уже вышли из лагеря, прапорщик почему-то спохватился, что одет я не по форме – без кепи и шинели – и мы всей процессией вернулись, я оделся, и мы снова пошли на окраину города, в пересыльную тюрьму.
Здесь меня уже ждали, без лишних церемоний записали в книгу и отвели в камеру-одиночку, в которой я без предъявления обвинений и без каких бы то ни было допросов пробыл целых полгода. Но как это ни странно, эта перемена, задуманная как кара, во многих отношениях улучшила мое положение. Конечно, я лишился общения с людьми, но и то не полностью. Были все же тюремные надзиратели – их было двое, они чередовались – и у меня с ними вскоре установились вполне сносные отношения. Они были уже пожилые. Один из них в первое время был груб и зол, но я сумел сагитировать его, и он стал, как и второй, подолгу мирно беседовать со мной о войне и жизни вообще, охотно рассказывать ужасы о заключенных, убийцах и ворах, а также о политических. Да и баня была, и на прогулку выводили изредка в тюремный двор, и питание лучше, чем в лагере.
Конечно, одиночка была с непривычки тягостна, порой находило отчаянье. Но я находил способ отгонять мрачные мысли. В камере была полукруглая, черная, высокая до потолка, жестяная печка, а со стен камеры легко было сколупнуть кусок белой штукатурки. Вот я и придумывал себе математические задачки, а при экономнейшем пользовании этой «доской» и этим «мелом», затем пытался решить их. Мои старания наблюдали через «волчок» мои сторожа, удивлялись, а я объяснил им, что я учитель, и вот упражняюсь, чтобы не забыть свою профессию, и они успокоились. Но ведь здесь были даже передачи, целых три за эти шесть месяцев. Товарищи из лагеря послали мне белье – по меткам на нем я понял, что оно было из посылки шведского Красного креста – непременно завернутое в свежий номер «Русского слова». Оттуда я всякий раз узнавал о все более бурных событиях в стране.