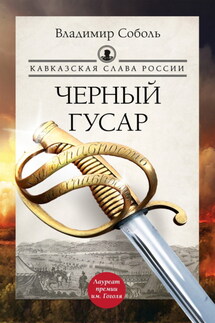На обочине времени - страница 54
– А почему ты из всех смыслов выбрал именно этот?
Хорошая была плюха. Из тех, что иной раз и заканчивают бой. Но я еще попытался собраться.
– Но именно это она и подразумевала, когда говорила, что я свой Вилену.
– Такой же умный?
– А не пошел бы ты!..
– Такой же работящий?
– Ну что ты дорываешься?! – Вспомнилось же вдруг давно уплывшее словцо. – Баба эта имела в виду факт совершенно определенный… Что и Вилен, и я… ну, в общем…. евреи.
И тут Граф расхохотался. Не беззвучно, чтобы лишь выказать свое удовольствие, а совершенно искренне, от чистого своего большого сердца, подхрапывая и пробулькивая где-то глубоко в горле.
– Вот сейчас встану и вмажу, – пообещал я ему, тоже не кривя душой; подумал и добавил: – Вот только допью и встану.
– Допивай и сиди.
Граф прекратил хохотать и снова сделался внимательным и серьезным. Словно обдумывая очередной ловкий ход, он открыл было рот, но не выдержал и ухмыльнулся.
– Жаль, что зеркало в коридоре. Ты бы сам посмотрел, как тебя перекорежило. Это, наверное, очень противно, да?
– Что противно? – раскрылся я навстречу, какой уже раз за сегодняшний день.
– Быть евреем… Сиди, сиди уж! Это же не я придумал. Это тебя, отец, от одного слова косоротит, будто бы какой-то мерзости на язык набрал.
– А ты попробовал бы сам…
– Пожалуйста, и сколько угодно. Еврей… Еврей… Еврей… Вот так. Не то чтобы очень приятно на вкус, но совсем и не так уж пакостно.
– Да не в словах же дело, – разъярился я окончательно. – Что, мне вот этой сковородкой надо тебе по голове постучать?!
– В начале любого дела, Боря, становится слово. Так было, есть и будет. И тебя, еврея-тебя, не любят еще и потому, что ты сам себя же стесняешься.
– Потому что для них… – Я широко взмахнул рукой, очерчивая едва ли не половину Питера, копошившегося где-то там за окном, внизу. – Для них это просто ругательство.
– Ой-ой-ой, обиделся! А то ты сам никогда никого никуда не посылал. Да вот меня только что… Но послушай, дорогой, можешь ты стать перед зеркалом и сказать громко, отчетливо – я еврей?
Скажу честно – язык как-то не повернулся.
– Видишь, – довольно сказал Граф. – А вот попробуй проделать такое упражнение. Становишься перед зеркалом и пробуешь сказать: я – еврей. Сначала шепотом, так, чтобы и сам себя не слышал. Потом чуть громче… еще громче… еще… и наконец сообщи это миру твердо и уверенно. Вот так каждый день полсотни раз. Глядишь, через месяц и в любом обществе не постесняешься… И все, давай закроем эту тему, а то подумать только – на что мы свое время растрачиваем.
– Поучать просто, – проворчал я, уже поддаваясь, но еще не согласившись. – А вот попробовал бы сам.
– В сем христианнейшем… – начал было декламировать Граф, но тут в коридоре зашаркали, зашлепали тапочки, и в дверь просунулась круглая голова нашего сладкопевца.
Он был круглый и пухлый. Большой комок ваты, аккуратно скатанный и чуть перетянутый посередине. На круглой головке плотно сидели очки с распухшими стеклами, а ниже выпячивались щеки, сбегая к плечам. Он говорил фальцетом, очень торопливо, выщелкивая слова, словно отчаянно боялся, что его сей момент оборвут. Раз увидев его, мало кто мог решить, что такое вот создание имеет отношение к струнам и клавишам. И пальцы его топырились из кисти как говяжьи сардельки. Но растяжки ему хватало больше чем на полгрифа.
Ведь он играть толком так и не выучился. Да и петь тоже. Знал десятка три аккордов, мог связать их коротким проигрышем в басах, а дыхания ему хватало только на полкуплета. Ну да он и не выводил мелодию, а всего лишь выговаривал слова. Эдакий речитатив под струнный перебор, какой частенько слышишь на улице. На концертных площадках пели лучше; возможно, что и в соседнем подъезде кто-то выкомаривал поживее. Но Пончо был наш, и мы его любили.