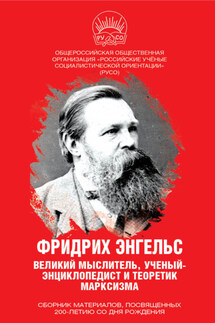На уроках сценарного мастерства. Том 2 - страница 3
Особо показателен взлёт отечественного кино в 50–60-е годы ХХ века. Это явление можно условно назвать «нашим неореализмом». Искренний интерес к судьбам современников, прочувствованные истории, любовь к человеку – всё в отобранной и эстетичной форме. У всех на слуху имена режиссёров и сценаристов того времени: С. Герасимов и В. Шукшин, Л. Кулиджанов, С. Ростоцкий, В. Ежов и Г. Шпаликов. Их классические фильмы: «Журналист», «Живёт такой парень», «Когда деревья были большими», «Баллада о солдате», «Застава Ильича» и множество других. В то «золотое» время кино было и массовым, и кассовым, и художественным. Его делали талантливые честные люди, не озабоченные размерами гонораров и зудом дешёвого самовыраженчества. Только на такой основе можно вернуть нашему кино любовь широкого зрителя.
Наше кино оставалось человечным во многом вопреки советской цензуре, которая выражалась, в первую очередь, в создании тематического плана Госкино и требовании следования ему. Он был нужен для того, чтобы не появлялось большого количества однотипных фильмов, с одной стороны, а с другой – чтобы решать идеологические задачи, поставленные Центральным Комитетом компартии. Тематический план просуществовал до конца 80-х годов. Согласно ему главными считались темы революции, историко-биографические, героико-патриотические темы. Были заказы и на музыкальные фильмы, комедии, детективы. Кстати, при этом широко использовали голливудские модели легкого жанра, например фильмы Григория Александрова, которые уже с 30-х годов делались по голливудским законам, с обязательным наличием однозначно положительного, однозначно отрицательного героя и с хэппи-эндом (закон жанра).
И всё же, находясь внутри этой советской идеологической парадигмы, работая по спущенному сверху тематическому плану, мастера советского кино вносили в фильмы человеческое начало, свою душу или даже критическое отношение к каким-то явлениям жизни. У того же Г. Александрова в фильме «Волга-Волга» вдруг появляется бюрократ, или Сергей Герасимов в конце 30-х в фильме «Учитель» показывал непростую драматическую историю любви, и это – в рамках государственной программы прославления советской интеллигенции. Таких примеров очень много. Художники наполняли заданные схемы своим отношением, насколько это было возможно. Цензура многое вырезала. Но фильмы появлялись. Наш литературный сценарий даже в самые идеологически жёсткие советские годы позволял создавать на своей основе высокие художественные произведения, давал возможность выразиться и режиссеру, и художнику, и оператору, и актеру.
Американское кино за время своего существования тоже не раз сталкивалось с похожими проблемами. Да, оно всегда было фабульным, и художнику в нем труднее проявлять себя, но тем не менее всегда находятся киномастера, которые смягчают схематизм масскультовского зрелища или попросту снимают художественные картины вопреки официальным взглядам и мнениям. Пример – «Простая история» Дэвида Линча или «Страсти Христовы» Мэла Гибсона. Сегодня положение кино во многом связано с экономическими проблемами – и в Америке, и в России. Наши киночиновники и продюсеры прямо говорят, что на искусство сейчас денег нет. Давайте нам что-нибудь попроще…
И ещё один острый для драматургов вопрос: кого считать «главным» автором фильма? Вопрос болезненный, крайне полемичный.