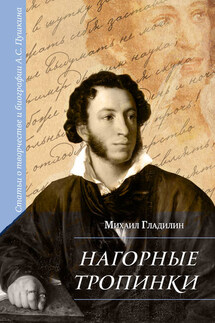Нагорные тропинки. Статьи о творчестве и биографии А.С. Пушкина - страница 10
Но любовная развязка в конце поэмы соотносится с развязкой политической и военной, государственной и гражданской: кровавый изменник в политике Мазепа остается таким же изменником в любви, так как подлинный Мазепа – один.
Бегство противников Петра превращено в символ их измены своей родной земле и народу, символ бегства от самих себя. Личные качества и поступки Карла, Мазепы, Марии, преследующих свои эгоистические цели и действующих вопреки общественной пользе и общественной правде, привели их к злонамеренным действиям. Они губят не только других людей, но и себя.
Финал исторической поэмы переносит время поэмы в будущее – «прошло сто лет», и это будущее окончательно утверждает историческую и человеческую истину: в жизни потомков эгоистические действия людей умирают и остаются в забвении, а действия и дела во благо людей живут и почитаются памятью потомков.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина
Рассказ и разоблачение графа в повести «Выстрел»
Слушая рассказ графа о встрече с Сильвио, о «выстреле», можно заметить в его объяснениях некоторые противоречия или несоответствия. И одно из главных: граф говорит, что он «запер двери, не велел никому входить», но через какое-то время, когда он выстрелил, а Сильвио стал прицеливаться, «вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею». Слово «запереть» должно означать «закрыть на ключ». Именно такое значение этого слова существует в тексте романа «Дубровский»: «Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю – двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу». Таково оно и в повести «Пиковая дама», когда Германн проверяет, как графиня могла пройти в дом: «дверь в сени была заперта». Отметим, что в обоих случаях запертые двери имеют определенное значение для развития сюжета и для характеристики персонажа. Как и в данной повести. Заметим также, что в тексте у автора по отношению к этим дверям дважды встречается выражение «двери отворились», а это может означать, что две створки дверей распахнулись. В любом случае, какими бы ни были наши рассуждения, можно заключить: если графиня смогла «отворить» двери и вбежать в кабинет, несмотря на то, что граф их «запер» и «не велел никому входить», то это означает, что дверь не была окончательно «заперта» графом. Объяснив, таким образом, это противоречие, внимательней отнесемся к словам графа и к тому, как описывает события сам автор.
Рассказу графа предшествует общий разговор в кабинете. Композиционно он позволяет Пушкину сообщить некоторые сведения как о кабинете, так и о его хозяине. «Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить», – начинает рассказчик повествование. Но перед этим мы узнаем, что «богатое поместье» принадлежало «графине Б***», следовательно, не графу. Несколько странно, почему он, «богатой и знатной фамилии», проводит медовый месяц в поместье жены, а не у себя в доме? Может, за шесть лет службы он успел растерять свое состояние? Автор все же замечает, что кабинет был «графский». «Обширный кабинет был убран со всевозможной роскошью, – продолжает рассказчик, – около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало…». По всему видно, что кабинет «со всевозможной роскошью» граф сам устроил для себя. Обратим внимание на «широкое зеркало» над камином. «Я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою». Следуя своей внешности, своей знатности, своему честолюбию, граф убрал свой обширный кабинет наподобие приемной у министра. Вскоре гость увидел в кабинете простреленную картину и ответил графу, что он стреляет «изрядно», что «в тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется из знакомых пистолетов». «Право? – сказала графиня, с видом большой внимательности, – а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?». Графиня спрашивает мужа так, будто совсем не знает, какой он стрелок. Но простреленная картина как раз напоминает о выстреле графа пятилетней давности, очевидцем которого она была. Но она все равно спрашивает, чтобы поддержать их разговор. «Когда-нибудь, – отвечал граф, – мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета». Пушкин сообщает, что на момент встречи с Сильвио граф действительно был неплохим стрелком, но он все же промахнулся с двенадцати шагов, вероятно, как подсказывает рассказчик, стреляя из чужого пистолета. Заметим, что супруги притворно и привычно, вполне невинно разыгрывают перед гостем этот светский разговор. Уже при появлении графа в кабинете нам указывают на умение графа по-светски играть какую-то роль: «Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным». Отметим и то, как и когда появляется графиня в кабинете мужа: «Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня». Только гость освоился, как «вдруг вошла графиня». Укажем еще на несколько интересных деталей: графиня спрашивает гостя, как бы сомневаясь, произнося не очень употребительное для женщины слово «право». Это же слово называет граф, описывая состояние Сильвио: «в эту минуту он был, право, ужасен». Думается, что графиня переняла такое выражение от мужа. Мы еще можем обнаружить у Пушкина несколько примет, указывающих на сложившиеся отношения между супругами, на подчиненную роль жены перед мужем. Начиная свой рассказ, граф пододвинул гостю кресло, предлагая сесть, но не сделал этого для жены. Вначале граф и гость «сидели», потом гость встал, потом ему предложили сесть, а вот графиня, вошедшая в кабинет, так и осталась стоять. За все время своего рассказа, когда граф и гость сидели, стоящая рядом жена ни разу его не прервала и не сказала ни слова. Граф говорил от своего имени, от первого лица, и звучит несколько самолюбиво и неучтиво в присутствии жены начало его речи: «Пять лет тому назад я женился. – Первый месяц, the honey moon, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний». Граф говорит о себе, не очень считаясь с присутствием жены. Услышав имя Сильвио, граф «вскричал, вскочив со своего места». Вид его стал «чрезвычайно расстроенным», и, должно быть, он хочет как-то объясниться и чем-то оправдаться, начиная рассказывать о происшедшем. И хотя графиня очень не желает, чтобы он это делал, – «ради бога, не рассказывай; мне страшно будет слушать», – но он не послушал ее. Из всего этого сделаем заключение, которое поможет и наведет нас на определенный вывод: граф в семейной жизни сохранил привычку первенствовать, не очень прислушивается к желаниям своей жены, поставив ее в определенную зависимость от себя.