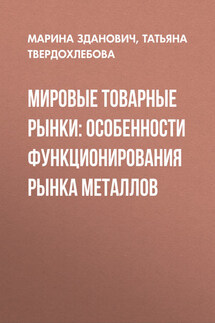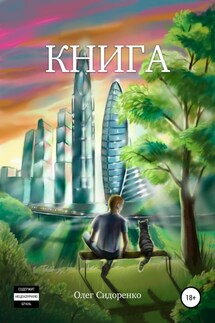Нарушители. Память Каштана: темный замок. Память Гюрзы: светлые сады - страница 4
Фонари не мигали, но будто поворачивали головы Каштану вслед. И здесь не пели птицы – ладно, ладно, сейчас не лето, чтобы они заливались ночь напролёт, но хоть бы кто чирикнул, хоть бы встрепенулся. Солонку в белую птицу отец превращать не стал: не захотел. Не до хороших примет было. Оказывается, если пытаешься скользить по мрамору в насквозь мокрых ботинках, раздаётся скрип. А если двери не откроются?
Они открылись. Каштан сперва постучал полукруглой – бронзовой, что ли – ручкой и только потом за неё потянул. Дверь поддавалась медленно, и ботинки опять скрипели на мраморном крыльце.
Внутри было темно. Каштан чуть не споткнулся о порог и на ощупь пошёл вперёд – он не умел повести кистью и вызвать свет, как отец, он вообще ничего не умел, и отцу стоило учесть это, конечно, прежде чем оставлять себя в болоте. Отец иногда был нерационален. А ещё он умел врать, и Каштан, пробираясь в темноте и на всякий случай касаясь стены, нет-нет да и думал: вдруг отец соврал о том, что в начале игры не умирают?
– Меня зовут не Каштан, – попробовал Каштан соврать сам для себя, и горло не свело. Всё получилось.
А потом он увидел свет. Очень тонкая полоска очень тёплого света виднелась из-под двери – и Каштан выдохнул и на выдохе постучал в эту дверь тоже.
– Ах! – отозвались с той стороны голосом тонким-тонким, почти звенящим. – Ах, ах, войдите.
Он никогда – или очень давно – не слышал таких голосов. Вообще никаких не слышал, кроме беличьих, птичьих и отцовского. На миг замялся, но толкнул дверь и вошёл. В комнате всюду валялись цветные клубки – розовые и жёлтые, голубые и красные, белые и оранжевые. Тонкие нитки и толстые, прямые и кудрявые, совсем маленькие мотки – и очень пышные. И среди всего этого сидела женщина в голубом платье и подкидывала на ладони светло-серый клубок. В углу расположилось кресло-качалка, и на него тоже были навалены мотки и катушки. У стен стояли шкафы с дверцами нараспашку, но и с полок смотрели нитки, нитки, нитки…
– Бисер в соседнюю дверь, – сказала женщина обычным голосом и зевнула.
Талия у неё была такой тонюсенькой, будто её когда-то вырезáли то ли из дерева, то ли из камня и на талии нож у мастера соскользнул и соскрёб лишнюю стружку. Много лишней. Наверное, эта женщина и ходила как-нибудь необычно – мелкими приставными шагами, и ещё…
И ещё она вдруг повернулась и посмотрела прямо на Каштана. Отшатнулась:
– Ой, мамочки мои. Ты кто, ребёнок? Я думала, ты дочь моя, а ты…
– Здравствуйте, – Каштан поклонился, как сумел. Он не мог снять ботинки – неудобно, но и пройти не мог тоже – пришлось бы наступать на клубки и пачкать их мхом, лесной грязью и неизвестно ещё чем. – Здравствуйте. Вы Карина или Алиса? У меня к вам весть.
– Ну, положим, Алиса. – Женщина распрямилась, отбросила клубок.
У неё были белые волосы – белее паутины, белей лишайников, белей берёзовой коры. Вот, может быть, как лепестки ромашки под самым ярким солнцем разве что. Каштан моргнул.
– Так, – сказала Алиса, если только это действительно была Алиса и отец не спутал. – Так. Ноги мокрые? Пойдём на кухню греться. Нитки я всё равно уже не разберу. Пошли, пошли, сейчас я только встану… Ах, где моя молодость.
И они пошли. Алисе даже свет не нужен был – так и шагала в темноте стремительно, подобрав юбки, не заботясь о том, отстал Каштан или нет. На полпути вдруг замерла, так что Каштан на неё налетел, воскликнула: «Ах да!» – и всё-таки щёлкнула пальцами. Почти как отец делал.