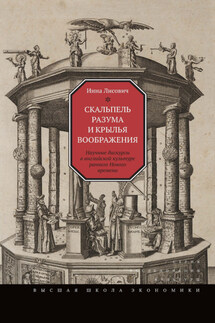Наука о религии и ее постмодернистские критики - страница 2
Все это ведет к тому, что ученые (даже работающие в относительно узких областях, где число их коллег не слишком велико) зачастую не могут выработать некие общие стандарты своей дисциплины, договориться о методологии или хотя бы об общих терминах, в рамках которых можно было бы вести дискуссию и обсуждать актуальные проблемы. Хотя авторитетные научные журналы пока еще спасают ситуацию, оставаясь некими центрами притяжения, формирующими «повестку дня», но в целом, как представляется, все идет к тому, что в скором времени научное знание окончательно фрагментируется и скатится в своего рода аутизм, когда ученые перестанут слушать и слышать друг друга и каждый будет заниматься своей собственной темой в рамках своих собственных представлений о том, как и зачем ею нужно заниматься.
Между тем возможность критики и свободного обмена идеями всегда составляла необходимую часть научной жизни. Она позволяла отбрасывать нежизнеспособные гипотезы, корректировать ошибки и расширять территорию научного знания. Изначально научные журналы, конференции и симпозиумы служили именно этим целям. Теперь, когда эти механизмы работают все хуже и хуже, распад научного сообщества на отдельные сегменты на фоне проповедуемого постмодерном методологического анархизма и всеядности, когда наука ставится в один ряд с уфологией и магией, может привести к крайне негативным последствиям.
Ходить за примерами далеко не надо. Вот, два профессора РАН пишут в работе, профинансированной Российским фондом фундаментальных исследований, что альбигойцы «имели пристрастие к восточным (мусульманским) культам»[9]. Эту свою оригинальную идею авторы никак не обосновывают (и даже не собираются это делать), из чего можно сделать вывод, что они особо не следили за тем, чтó пишут, и с равным успехом на месте альбигойцев могли оказаться, например, методисты, а на месте «мусульманских культов» – буддизм. Подобное может происходить только в условиях, когда, с одной стороны, фрагментация научного сообщества влечет за собой сложности с качественной экспертной оценкой псевдонаучных сочинений, а с другой – постмодернистский принцип anything goes постоянно легитимирует эту псевдонаучную деятельность как научную. Не случайно один из авторов приведенной выше сентенции во вполне постмодернистском духе отстаивает свое право «мыслить иначе»:
[Разумение человека] вовсе не одно, не косное, не заданное, неважно чем или кем – традицией, родителями, государством, Богом или языком… Не бывает… того, чтобы чему-то «не было альтернативы»