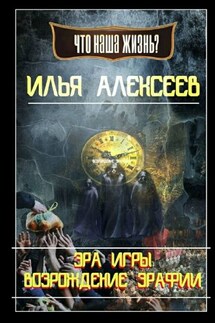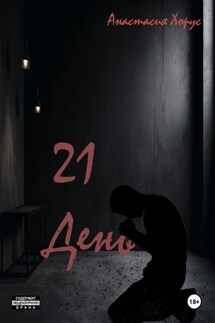Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 1. Под редакцией доктора Раймунда Шмидта - страница 15
Последней моей работой, завершенной в Бонне, было небольшое экспериментальное исследование факторов, определяющих восприятие обратимых рисунков. Как утверждалось ранее, важны не только направление взгляда и движения глаз. Влияние оказывают также направление внимания, готовность соответствующих идей или следов памяти и желание видеть рисунок определенным образом.
1 октября 1909 года я был назначен полным профессором Университета Мюнстера и В*, где должен был стать преемником Меймана. Я с радостью принял этот вызов, хотя и покидал Бонн с тяжелым сердцем. Мой отъезд был облегчен тем, что Эрдманн, мой высокочтимый учитель, которому я многим обязан, покинул Бонн в то же время, чтобы перейти в Берлинский университет.
Начало моей работы в Мюнстере поначалу было прервано болезнью. Но вскоре я освоился с новыми профессиональными обязанностями. Книга «Мозг и душа», которую я начал писать в Бонне, была завершена в 1911 году. В ней я сначала описал то, что известно и предполагается о строении и функциях мозга, в той мере, в какой это важно для интерпретации отношений между телом и душой. Затем особое внимание было уделено физиологическим объяснениям психологических феноменов. Физиологическая гипотеза памяти, объясняющая феномены памяти предположением о наличии в мозге материальных последействий возбуждения (остатков и ассоциаций), при ближайшем рассмотрении оказалась совершенно неадекватной. В последней части книги рассматривается проблема «разум-тело». Материализм несостоятелен, но параллелизм в его различных формах также вызывает ряд опасений и возражений. Наилучшей теорией взаимодействия является та, которая предполагает, что физические процессы протекают в мозге непрерывно, но при этом вызывают помимо физических еще и психические эффекты, которые, в свою очередь, оказывают направляющее влияние на физический ход. Если мы приписываем особенность жизненных процессов по сравнению с явлениями мертвой природы такому влиянию и руководству со стороны психических факторов, то мы приходим к психовитализму, который представляет собой продолжение нашей гипотезы взаимодействия.
Книга «Мозг и душа» давала лишь общее представление о психовитализме. Более подробно она была разработана и защищена как обоснованная гипотеза в лекции «Жизнь и анимация», которую я прочитал на собрании немецких естествоиспытателей и врачей в Мюнстере в 1912 году.
Во время моей преподавательской деятельности в Мюнстере я почувствовал, что вынужден обратиться к сфере образования. Педагогические проблемы часто обсуждались в доме моего отца, и я пришел к выводу, что социальный вопрос в значительной степени является вопросом образования. Живой педагогический интерес, который я обнаружил среди своих студентов, стал для меня приятным стимулом для рассмотрения проблем образования с психологической, этической и социальной точек зрения, в основном на семинарских занятиях. Мои студенты с удовольствием работали над педагогическими диссертациями, которые я опубликовал в сборнике «Философские и педагогические работы» в Лангенсальце. В частности, я хотел, чтобы система помощи была исследована в серии работ в ее исторических формах. Я рассматриваю соответствующим образом направленную деятельность учащихся по оказанию помощи как средство приобщения их к альтруистическим и социальным действиям, как я объяснил в короткой статье «Воспитание филантропии и система помощи», которая появилась в вышеупомянутом сборнике в 1914 году. Лишь немногие из запланированных диссертаций о системе помощи были завершены, поскольку война и смерть вскоре вырвали перо из рук моих докторантов, а затем мой переезд в Мюнхен положил конец моей педагогической деятельности; поскольку там была кафедра педагогики, я ограничил свои лекции и занятия областью философии.