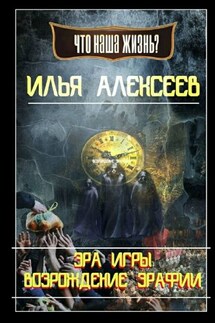Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 1. Под редакцией доктора Раймунда Шмидта - страница 6
Возможность такой истории как науки и такой социологии отрицается Дильтеем и Риккертом. Я же, напротив, попытался утвердить ее и обосновать это утверждение. В частности, именно органический характер человеческого общества заставляет нас ожидать закономерности в его жизненных явлениях. Общество часто рассматривалось как организм, еще Томасом Гоббсом. С тех пор как Шванн открыл животную клетку, в этом есть нечто большее, чем просто внешнее сравнение, а именно реальный параллелизм. Ведь организм – это еще и общество, а именно общество клеток; и животное тело, и человеческое общество подпадают под термин «органическая система». Однако, чтобы не делать слишком больших выводов из равенства видов, необходимо помнить о специфическом неравенстве. Единицей, составляющей животное тело, является клетка; единицей, из которой строится общество, является или, по крайней мере, все больше становится человеческая воля, направляемая духом; общество, таким образом, в этом смысле является духовным организмом. Как таковой, он, однако, проявляет основные органические характеристики: 1. Единая связь всех его элементов, стремящаяся противостоять нарушениям; 2. Взаимодействие частей друг с другом; 3. Передача органической связи новым элементам, которая в животном организме называется размножением, а в социальном – воспитанием. Никто не сомневается, что жизнь животного организма подчиняется определенным законам развития и регресса, если не принимать во внимание насильственные возмущения, приходящие извне. Очень похожие законы действуют и в развитии всего животного мира, что очень убедительно показал Геккель в своей теории параллелизма филогенеза и онтогенеза. Поэтому мы вправе ожидать органического развития и духовного мира. Рост и упадок. Только такая закономерная последовательность явлений позволяет предсказывать будущее, что в конечном счете является целью любой науки и особенно важно и ценно для предмета истории – общественной жизни.
Однако, к сожалению, большинство немецких историков придерживаются позиции историографии, а не исторической науки. Поскольку, подобно Дильтею, они не хотят отказываться от предположения о свободной воле человека, они сторонятся законности. Эта робость почетна, но необоснованна. Ведь несмотря на всю законность, человек, и особенно коллективный человек, не игрушка каких-то внешних сил, не автомат, приводимый в движение средой, а собственная сила с собственными намерениями и способностью отстаивать их перед средой. Но страх перед автоматизмом приводит к тому, что историки предпочитают верить в беззаконие, а не в предопределенный порядок. Хотя они признают, что нельзя отрицать отдельные линии развития, история в целом остается хаосом, из которого вылавливаются «ценности». Таким образом, они никогда не приходят к общему взгляду на историю или, по крайней мере, не приходят к ясному, осознанному взгляду. Ведь у каждого историка есть некий неясный, более эмоциональный общий взгляд, поскольку без такого взгляда он был бы совершенно беспомощен перед массой деталей.
На мой взгляд, этот отказ от исторической науки пагубно сказался на интеллектуальной жизни Германии. Большинство историков не занимались исследованием «смысла» истории, который сам по себе является душой исторического преподавания, но в наших школах – несмотря на официальное поощрение – не был достаточно акцентирован ни как теоретическая проблема, ни как практическая цель. Только Карл Лампрехт попытался выделить в немецкой истории определенные «культурные эпохи», которые должны следовать друг за другом с психологической необходимостью, но которые характеризуются скорее способами воображения, чем ядром исторических событий – волей.