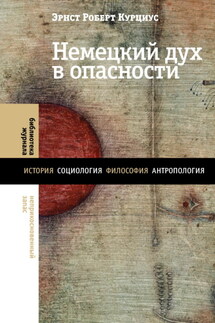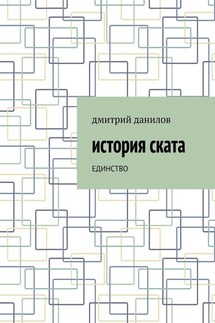Немецкий дух в опасности - страница 26
В эпиграфе из главы II Курциус добавляет к словам Вергилия восклицательный знак, превращая простую констатацию («…вот для кого мы засеяли эти поля» – окончание фразы в оригинале) в некий призыв взглянуть на возмутительные примеры, череда которых последует в самой главе. Вторая глава стоит в тесном сродстве с четвертой (одна посвящена угрозам немецкому духу «справа» – от националистов; другая – таким же угрозам «слева» – от революционной социологии), и эта их равноустойчивость подчеркивается разрывом одной вергилиевской сентенции на два эпиграфа. Здесь необходимо добавить, что первая эклога Вергилия занимала в литературном мировоззрении Курциуса совершенно особое место. В «Европейской литературе и латинском Средневековье» он пишет о ней так:
С первого столетия императорской эпохи и до времен Гёте всякое латинское образование начиналось с чтения первой эклоги. Без преувеличения можно сказать: у того, кто не держит в голове это маленькое стихотворение, нет ключа ко всей литературной традиции Европы179.
В сущности, выводя слова вергилиевского Мелибея, сокрушающегося над потерянной пашней, в эпиграфы в двум главам-диатрибам, Курциус формулирует главную мысль этих глав: речь идет не о политической критике с противоположного фланга, а скорее об ужасе перед новым варварством, осужденным издревле, осужденным самой европейской традицией, которая этому варварству противостоит180. В статье «Вергилий» 1930 года181 Курциус фактически объявляет римского поэта воплощением того консервативного идеала, к которому сам Курциус всегда стремился и которого, по его словам, решительно не хватает немецкому духу (ср. с учением о константах, которое Курциус в IV главе «Немецкого духа» предлагает противопоставить духовному революционизму):
Всю силу, все помыслы свои Вергилий направил на то, чтобы уберечь неизменное от всякого рода поветрий. Повторение как возвращение, обретение как новообретение, обновление как исполнение и возвышение чего‑то уже существующего – вот к чему лежало сердце Вергилия…182
Чуть дальше в той же статье Курциус идет дальше и окончательно сближает вергилианскую мысль с идеей либерального консерватизма, открытого к творческим обновлениям:
На другом материале, на незнакомых границах выстроить заново что-то потерянное, что-то ушедшее – вот мудрость Вергилия, вот его путь и его устремление183.
Более того, в своем «Вергилии» Курциус (пожалуй, впервые в столь явном виде) формулирует идею об античном консерватизме, который как генетически неотделимая черта должен быть присущ всякому гуманизму, стоящему – по определению – на греко-римском фундаменте:
…главная, определяющая черта самой личности Вергилия: стремление к консервации, порожденное элегической печалью и тоской, облагороженное пиететом, самой историей переплавленное в творческий порыв. Но этот личностный аспект неотделим от аспекта внеличностного: от римских представлений о непрерывной традиции и даже, наверное, с общим для всей Античности законом жизни, согласно которому все новое должно было опираться на историческое наследие и к нему отсылать