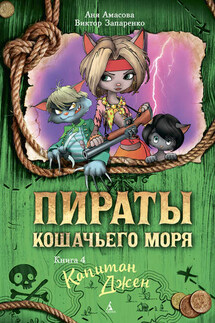Неокантианство. Шестой том. Сборник эссе, статьей, текстов книг - страница 58
«Царство растений – и то же самое с царством животных – как воплощение всех растительных форм, которые когда-либо жили, состоит из мириад филогенетических штаммов, которые возникли во все времена и в самых разных местах земной поверхности, достигли неодинаковой продолжительности, высоты развития и ветвления и в большинстве своем вымерли. Ныне живущие растения представляют собой окончания многочисленных линий, которые имеют разные места рождения и возраст, и поэтому не являются генетически родственными друг другу».
Таким образом, глубокое различие между этими предположениями о развитии и предположениями дарвинизма приводит к легко определяемому расхождению представлений о типе.
Однако это происходит не потому, что с точки зрения Неджели возникают какие-то более четкие критерии для разделения логических родов, т.е. тех «родов», которые он обозначает, чей охват меньше, т.е. для вышеупомянутых рас, разновидностей и модификаций. Скорее, они остаются морфолого-генеалогического характера. Не упраздняется и текучая связь родов. Даже Неджели, в причудливом выражении возвращаясь к старому понятию вида, признает, что даже в его способе разновидности «нельзя отличить от настоящего вида опытным путем». Он даже признает в общих чертах:
«Ряды развития органических царств» ведут «от низших и простейших… постепенно… к наиболее совершенным и сложным». Для него также олицетворение организмов состоит из множества «древовидных разветвленных рядов, которые сходятся вниз в общих исходных точках».
Поэтому остается неясным, как Наджели еще мог утверждать во втором издании своего небольшого трактата о происхождении и понятии естественно-исторического вида, что
«понятие вида в будущей систематике будет научной категорией, для которой существуют определенные характеристики, наблюдаемые в природе и проверяемые экспериментом», так что «два наблюдателя должны прийти к одному и тому же результату, если метод исследования будет точным».
В этом отношении, однако, возникает разница в ряде типов, поскольку для теории развития Неджели, в результате непрерывного generatio aequivoca [возникновение органических существ из неорганических веществ без родителей – wp], генеалогический смысл, которым последовательно обладают типы в гипотезе Дарвина, во многих случаях утрачивается. Везде применяются только морфологические типы, репрезентативные в той же степени, что и у Дарвина. Сам Неджели, однако, готов отбросить это различие для практики классификационного мышления, вставив кантианский ход мысли. Он превращает, можно сказать, конституирующий принцип непрерывного родства в теории Дарвина в чисто регулятивный. Ибо он заявляет:
«Универсальное кровосмешение ныне живущих организмов, а также филогенетической системы… могут, в силу простоты закономерного развития, существующего во всем органическом царстве, рассматриваться символически как общие нормы; поскольку организмы, даже если они не связаны генетически, тем не менее в целом относятся друг к другу так, как если бы эти отношения существовали».
VII Идеальность типов развития организмов
В приведенных выше рассуждениях о типичных типах в историческом естествознании вопрос об «идеальности» или «реальности» этих типов специально оставлен без внимания. Ведь он ведет из области логики в область метафизики, или, чтобы избежать названия, которое стало пугающим, хотя и неоправданно, в область эпистемологии.