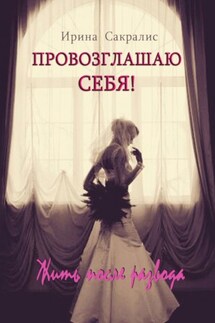Неостывшая память (сборник) - страница 7
Внезапно на три дня приехал муж тети Пани дядя Лёша, военный авиационный инженер. Понятия не имею, как тетя Паня объяснила ему проживание в одном доме с председателем колхоза. В эти дни в комнату, где были тетя Паня и ее муж, Мумрин не заходил. Со мной и братом дедушка был необычайно ласков. Дядя Лёша уехал, и всё встало на свои привычные места.
Запомнился и приезд летом в краткий отпуск по ранению Саши Соловьева – то ли двоюродного, то ли троюродного племянника мамы. На нем ладно сидела танкистская форма. На плечах красовались погоны старшины. Ватага восторженных мальчишек преследовала его по пятам. Я был горд, ведь из всех пацанов он выделял меня, называл братиком, приобнимал за плечи, когда мы неторопливо шагали по деревне. А вечерами на огороженную скамейками и утрамбованную сапогами площадку собиралась молодежь на зов гармошки Бори Сарафанова. Тут уж отбою Саше от девчонок не было. Как-то тетя Паня послала меня его разыскать – он не приходил ужинать. Довольно быстро я обнаружил его целующимся с девушкой за сараем. Стараясь быть незамеченным, я ретировался, поглазел на танцующих, не спеша вернулся домой и доложил, что Сашу не нашел. Вскоре он снова ушел на фронт. Провожала его вся молодежь деревни. После войны я видел его лишь один раз и рассказал, как искал его в тот памятный вечер и что видел за сараем.
В сентябре мне исполнилось восемь лет. Я пошел в первый класс. Брат Лёня уже учился в пятом классе в Ножкино, рядом с монастырем, потом забросил учебу и стал работать в кузнице учеником молотобойца. Дружил он с Мишей Крохалевым. Брата привечали в доме Крохалевых: они были родственниками его родного отца, давным-давно невесть где пропавшего.
Наша четырехклассная школа находилась совсем недалеко от Вёксы. В школе были две небольшие комнаты. В одной за партами располагались ученики первого и второго классов, в другой – третьего и четвертого. Учили нас две приветливые, добрые учительницы – Нина Сергеевна Соколова и Антонина Алексеевна Крошкина. Чаще всего я был под опекой Нины Сергеевны. Учебники были старые, затрепанные, писать буквы и цифры мы учились перьевыми ручками на толстой серой бумаге, а иногда и на газетах. Однажды из района прислали для нас несколько новеньких тонких тетрадок в косую линейку. Вожделенные тетрадки достались не всем. В числе прилежных учеников тетрадку получил и я. И был необычайно горд этим.
На переменках в теплую погоду мы играли перед школой в пятнашки, в лапту, а девчонки в коридоре выстраивались в две шеренги, по очереди наступали друг на друга и, обязательно громко топоча, пели:
В школу я ходил с большим удовольствием, учеба давалась легко. Появились у меня новые приятели-одноклассники – мальчишки и девчонки из соседней деревеньки Туруково. И среди них Павлушка Гусев, с которым через много лет снова столкнет меня судьба. А обе учительницы и даже молчаливая техничка-истопник Елизавета Михайловна Кузнецова казались мне людьми особенными, необыкновенными.
Ранним январским утром 1944 года нас, всех учеников школы, отправили на один день в Чухлому. Мы радостно разместились на санях, лошади тронулись и неторопливо зашагали зимней дорогой через озеро. Белый-белый упругий наст, прозрачный морозный воздух, только что появившееся на горизонте солнышко, неспешное шуршание полозьев – все было таким празднично-умиротворенным, что мы позабыли о привычных проказах, притихли. В конце недолгого пути я даже не заметил, как задремал.