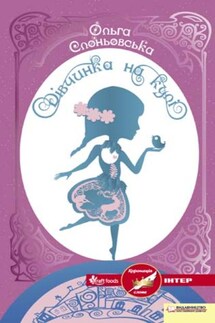Непостижимая кинодраматургия - страница 4
Затем мы представляем себе поле, на которое власти согнали народ слезно просить Бориса Годунова принять царский венец, слышим разговоры народа, которому, в сущности, все равно кого изберут царем, узнаем, наконец, что Борис внял мольбам русского народа и согласился на царство. Мы снова видим бояр – среди них князей Воротынского и Шуйского. Воротынский напоминает Шуйскому об их разговоре, но Шуйский обрывает прежнее. Он – на стороне царя. «Лукавый царедворец!» – бросает ему вслед Воротынский.
Как и все у Пушкина, сцены эти написаны ярко, сильно и кратко. В них ничего лишнего. Все подчинено цели – показать эпоху, людей, обстоятельства. Чтение этих сцен производит огромное впечатление. И тем не менее в них скрыт ответ на загадку: почему «Борис Годунов» не идет на сцене.
Ключ к пониманию драматургии.
Сюжет в драматургии есть, прежде всего, выражение активного намерения героя. Причем такого намерения, к которому зритель не должен остаться безучастным. Зритель должен хотеть либо осуществления этого намерения, либо его провала. Либо торжества героя, либо его гибели, поражения, позора.
Итак, в основе всякой драматургии лежат человеческие желания. Эти желания должны быть оригинальны, во всяком случае, не похожи на обычные, им должны противостоять препятствия почти неодолимые. Тогда сюжет в драматургии начинает работать. Конечно, все то, что я говорю, носит условный характер. Например, желание может быть самым заурядным, но тогда препятствия должны быть оригинальны…
На минуту отвлечемся от Пушкина.
В одной из ранних комедий Чаплина, пьяный Чарли возвращается домой. У него банальное желание: поскорее добраться до дому, раздеться, лечь и уснуть. Но не тут-то было! Вещи, как озверелые, оказывают ему сопротивление. Ничто не подчиняется ему. Добраться до постели и лечь оказывается столь же трудным, как взобраться на вершину скалы. Хотя в этой картине участвует один персонаж, сюжет ее чрезвычайно насыщен драматическим действием. До сих пор она смотрится с захватывающим интересом.
Однако, вернемся к «Годунову».
В этой драме есть одна картина, которая безупречно ставится и на любительской и на профессиональной сцене. Это сцена «В КОРЧМЕ НА ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ».
Чем же привлекает она?
Напомним ее содержание. В корчме на литовской границе, почти у цели, находится сейчас Гришка Отрепьев. Ему не терпится выбраться поскорее из московских пределов, но спутники его, монахи-забулдыги Варлаам и Мисаил, не спешат. Они дорвались до выпивки, и теперь их нескоро поднимешь. В корчму приходят пограничники-стрельцы, получившие строжайшую инструкцию изловить Гришку. Инструкцию они всерьез не принимают, считая, по-видимому, что злодея все равно не изловишь, но извлечь выгоду из обстоятельства они не прочь. Они хотят получить мзду. Такой обычай. С Гришки, по их мнению, взятки гладки, поэтому они решают потрясти монахов.
Они начинают с Мисаила…
Перечитайте внимательно эту сцену, и вы увидите, какое переплетение намерений и желаний пронизывает весь этот небольшой кусок, как из этих намерений возникает интрига, как точно и круто завязывается сюжет.
Мы видим людей, которые хотят и пытаются немедленно осуществить желаемое. В этой сцене все неожиданно и все подчинено воле ее персонажей. Ее содержание на редкость насыщенно действием. Это одна из самых сильных сцен в русской драматургии вообще.
В отличие от нее начальные сцены «Годунова», о которых шла речь выше, лишены или почти лишены таких ярко выраженных намерений. В них много информации, эпохи, быта, много поэзии, но нет драматургии. В одной из своих блистательных лекций С.М. Эйзенштейн, исследуя «Полтаву», назвал приведенный им отрывок примером исключительно точного режиссерского видения.