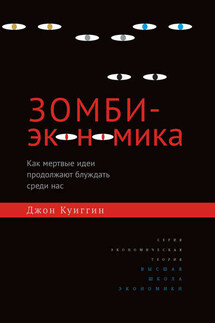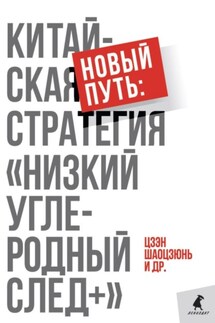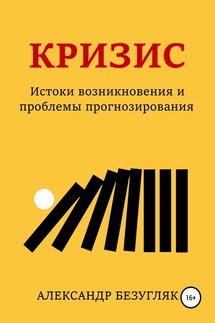Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала - страница 29
Корни этого спора уходят значительно глубже банального поиска виноватых. Неспособность бедных стран догнать богатые – настоящий вызов теории мейнстрима, потому что эта неспособность идет вразрез с идеей о том, что рыночные силы выравнивают различия в экономических достижениях путем вознаграждения успеха и наказания неудачи. Как пишет Норт, развитие с течением времени должно было продемонстрировать на практике работу того механизма, согласно которому «конкуренция должна устранить более слабые институты и способствовать выживанию тех институтов, которые лучше решают человеческие проблемы»[82]. Более того, этот механизм должен был затронуть предпринимателей как в экономической, так и в политической сфере. Простая логика предполагает, что неудачные решения должны искореняться с течением времени.
Если посмотреть на ситуацию в более широком контексте, неспособность рыночных сил привести к конвергенции между разными странами также идет вразрез с глубоко укоренившейся верой в возможность «догоняющего роста». Начиная с Александра Гершенкрона среди ученых крепла вера в то, что задержка в развитии – это хорошо, что страна, которая запаздывает, получает преимущество, поскольку имеет потом возможность скопировать достижения богатых стран и при этом избежать их ошибок[83]. Если убрать все помехи и дать экономическим агентам свободно искать возможности, то пропасть в развитии должна сама собой заработать как мощный двигатель экономического роста. Поскольку ни одно из этих убеждений не удалось пока подтвердить фактами из реальной жизни, мы вправе усомниться в правдивости всей теории.
Перейдем ко второму вопросу, который еще сложнее первого. Отвлечемся от неспособности рыночных сил самостоятельно справиться с задачей и задумаемся, как так вышло, что совместный результат вначале деколонизации, затем потока помощи в развитии, а потом и глобализации оказался настолько разочаровывающим. За несколькими важными исключениями, все эти меры не оказали никакого существенного воздействия на размер пропасти в развитии.
Возвращаясь к расчетам Мэддисона, мы можем выделить несколько интересных тенденций[84]. Первая тенденция заключается в том, что период с 1950 по 1973 г. выглядит как «золотой век беспрецедентного благосостояния». Мировой уровень ВВП рос почти на 5 % в год, а мировой уровень ВВП на душу населения – почти на 3 % в год. Хотя одни регионы развивались быстрее других, везде наблюдался рост благосостояния и даже некоторая конвергенция (хотя эта конвергенция преимущественно состояла в сокращении пропасти между США и другими капиталистическими странами).
В следующие четверть века ситуация резко изменилась к худшему. Общий рост мирового уровня ВВП на душу населения снизился более чем в 2 раза, а между регионами стала нарастать дивергенция.
К плюсам можно отнести то, что несколько стран Азии (преимущественно Китай и Индия), совокупное население которых составляет половину всего населения мира, в этот период развивались даже быстрее, чем во время «золотого века». Успехи этих стран можно было бы считать мощным эмпирическим подтверждением теории «догоняющего роста».
К минусам относится появление в этот же период группы из 168 «нестабильных» стран, совокупное население которых составляет примерно треть населения мира. Эти страны, скорее, отставали, чем догоняли. С 1973 по 1998 г. в Африке подушный доход не вырос, в Восточной Европе и бывших странах СССР он упал на четверть, а в латиноамериканских и многих азиатских странах вырос лишь на малую долю по сравнению с «золотым веком». Хотя случай «стран с переходной экономикой» нужно рассматривать как особенный, и некоторые расчеты глобального коэффициента Джини для домохозяйств (коэффициент Джини измеряет, какую долю дохода получают различные доли домохозяйств) показывают, что на глобальном уровне неравенство понемногу выравнивается, судьба 168 «нестабильных» стран все же демонстрирует тенденцию, которую можно назвать, мягко выражаясь, печальной.